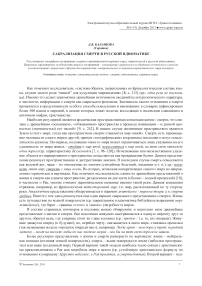Сакрализация смерти в русской идиоматике
Автор: Балашова Любовь Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Русский язык как сокровищница духовных традиций русского народа
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена специфика восприятия смерти в традиционной картине мира, отраженной в русской идиоматике. Выявлены характерные особенности такого восприятия – совмещение сакрального и обыденно-логического смыслов и использование сакральных образов для выражения эмоционального и морально-нравственного мира человека.
Концепт, концептуальная модель, смерть, идиоматика, картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14821691
IDR: 14821691
Текст научной статьи Сакрализация смерти в русской идиоматике
Более регулярно представление о жизни и смерти развернуто по вертикали: жизнь – нейтральная позиция (позиция земной поверхности), смерть – выше поверхности земли (небесное пространство) или ниже (подземный мир). Первый вариант такой модели наиболее тесно связан с христианскими представлениями о Рае или загробном мире в целом (ср. устойчивую христианскую формулу по отношению к умершему: Царство небесное; в Рай просятся, а смерти боятся). Второй вариант – под- земный загробный мир – в идиоматике может быть представлен в заимствованных вместе с европейской культурой античных мифологических образах: Аид с его обитателями – тенями душ умерших (ср.: устойчивый поэтизм царство Аида, фразеологизмы страна / обитель / царство теней, подземное царство). Распространены славянский языческий и христианский варианты – подземный мир, ад. Однако, с одной стороны, упоминание Ада связано со смертью лишь некоторых из живущих – нечестивых, грешников (ср. ритуальное пожелание смерти чтоб тебе в аду гореть), с другой – сам похоронный обряд основан на помещении тела покойника в глубь земной поверхности. В связи с этим фразеологизмы и паремии типа лечь в могилу, стоять одной ногой в могиле; пусть земля будет пухом могут быть истолкованы буквально. Вместе с тем сам обряд имеет сакральный смысл, кроме того, указание на самостоятельное перемещение под землю, в могилу (как не вертись, а в могилку ложись; царь и народ – все в землю уйдут) явно означает сакральное перемещение в «иной» (загробный) мир (ср.: живой прóпасти не бывает, нет).
Следует, однако, отметить следующее. Все конкретизаторы «иного» (загробного) мира – Рай, Ад, Аид и т. д. в большинстве идиом и паремий используются в метафорическом значении и характеризуют моральное состояние, душевные переживания и т. д. (ср.: как в аду, как в раю побывал, на седьмом небе от счастья ). Таким образом, в традиционной картине мира пространственные сакральные образы смерти в большей степени востребованы для описания мира живых – эмоциональной и интеллектуальной деятельности, нравственных постулатов и т. п. (ср.: адские муки, ад кромешный, райские наслаждения, рай земной, райское блаженство, кануть в Лету ). Прямой (сакральный) и переносный смыслы сосуществуют в многозначных идиомах. Кроме того, первичный (сакральный) образ может иметь вполне логическую мотивировку, например, выражение Геена огненная («ад, место пребывания душ умерших грешников») восходит к топониму – названию Генномской долины возле Иерусалима, где язычники приносили человеческие жертвы, заживо сжигая людей. Именно поэтому гореть в геенне огненной – участь грешников. А уже это, сакрализованное, наименование стало основой для развития переносного значения «место больших страданий, невыносимых мучений».
Другое глобальное представление о жизни и смерти, присущее как языческим, так и христианским доктринам, связано с образом человека как сосуда скудельного, жизнь которого обусловлена наполнением его Божественным дыханием – духом; наделением человека бессмертной душой. Соответственно, смерть в этом случае осмысляется как покидание духом, душой человеческого тела; обретение ими свободы от тела. Хотя образы духа и души в системе различных верований могут быть противопоставлены, в традиционной картине мира они обычно выступают как нечто близкое друг другу. Не случайно существует целая система вариативных идиом (ср.: и дух / душа вон ). В других случаях такая вариативность отсутствует (ср.: испустить дух, душа с телом расстается, класть / положить свою душу; тело в тесноту (т.е. в гроб. – Л.Б. ), а душу – на простор; смерть – душе простор ).
Показательно, что в традиционной картине мира четко противопоставляются моменты рождения и смерти: душой, дыханием жизни наделяет только Бог, тогда как смерть (утрата дыхания жизни) может быть вызвана разными причинами – как естественными, так и насильственными (ср. пословицу: жизнь дает только Бог, а отнимает всякая гадина ). Естественная смерть осмысляется как самопроизвольный процесс выхода духа, души из тела ( испустить дух, душа с телом расстается, отдать Богу душу; никто не увидит, как душа выйдет ) или процесс, каузированный Богом (ср.: без поры душа не выйдет; Кто вложил душу, тот и вынет ). Неестественная смерть связана с использованием каузативных глаголов нанесения удара, изъятия и обычно характеризует разговорную и просторечную сферы употребления (ср.: вынимать / вынуть душу, вышибить дух / душу ).
Третья концептуальная модель, во многом связанная и часто пересекающаяся с первой и второй, – это модель обладания. Человек принадлежит себе (у него есть право выбора) только при жизни. Утрата этого качества связан с тем, что человек переходит в абсолютную власть Бога (ср.: Бог дал, Бог взял; Кого Бог накажет, тот сам помрет, а другого любя приберет). Эту функцию регулярно выполняет персонифицированный образ Смерти (двум смертям не бывать, а одной не миновать; смерть идет / настает; смерть взяла; принять смерть; найти смерть). Иногда эту функцию выполняют и другие персонифицированные герои – эвфемизмы смерти (ср.: Кондратий / Кондрашка хватил; хватит Ми-рошка). В отличие от оборотов с именем Бога, данные фразеологизмы и паремии отражают либо низкие морально-нравственные качества умершего, либо общее отрицательное отношение к смерти со стороны именующего – русского этноса. Смерть в олицетворенном облике всегда выступает как враждебное человеку существо, тайно подстерегающее его, от власти которого и от встречи с которым никто не уйдет. Показательно, что именно этот тип концептуальной модели – самый частотный среди паремий (ср.: от смерти не посторонишься; смерть берет располохом; смерть нахрапом берет; от смерти не посторонишься; бойся не бойся, а смерть у порога). Смерть обычно самостоятельная и независимая сила (ср.: от смерти ни крестом, ни пестом; от смерти и под камнем не укроешься), но она может выступать как вестник Бога, его распорядитель (бойся Бога – смерть у порога; Бога прогневишь – смерти не даст). Однако чаще она одно из проявлений темных сил. Неслучайно в некоторых идиомах и паремиях она воспринимается как чудовище, хищник, нападающий на свою жертву – человека (ср.: не ты смерти ищешь, она сторожит; смерть сослепу лютует; бегать от смерти – не убéгать; смерть голову откусит – всех поравняет). Наиболее четко отрицательное отношение к смерти выражено при использовании имен языческих божеств (ср.: Молох войны; приносить в жертву Молоху – «отдавать жестокой, неумолимой силе, требующей человеческих жертв»: выражение библейского происхождения, где Молох – кровожадный бог ханаанеян (финикийцев); у его медного идола с бычьей головой приносили человеческие жертвы).
Таким образом, народное сознание фактически утверждает всевластие смерти, а вот отношение к этому двоякое – понимание неизбежности и нежелание воспринимать это как благо, добро. Восприятие жизни как чего-либо крайне непрочного и потому недолговечного наиболее ярко отражено в сакральном образе жизни – нити. Такое представление наиболее известно по античному мифу о богинях судьбы Мойрах (Парках), прядущих, отмеряющих и обрывающих (отрезающих) нить жизни. В русской языческой традиции сакрализация процесса прядения и сучения пряжи, изготовления нити также присутствует, что проявляется в идиоматике (ср.: жизнь на нитке, а думает о прибытке; прервать жизнь, жизнь оборвалась ).
Параллельно этому существует образ жизни, держащейся на волоске. Происхождение этого образа также связано с сакральными текстами, основа же такой концепции логически вполне мотивирована: жизнь на волоске, висеть на волоске, быть на волосок от смерти . Данные выражения восходят к древнегреческому мифу о Дамокловом мече. Сиракузский царь Дионисий Старший во время пира посадил своего вельможу Дамокла, позавидовавшего его царскому сану, на свой трон. Вскоре, однако, Дамокл увидел, что над его головой на конском волосе висит меч, готовый сорваться в любую минуту. Так Дионисий доказал своему завистнику, что счастливая жизнь царя всегда сопряжена со смертельной опасностью.
В целом можно констатировать, что совмещение сакрального и обыденно-логического смыслов – характерная черта восприятия смерти в традиционной картине мира, отраженной в русской идиоматике. Другой ее характерной особенностью является использование данных сакральных образов для выражения эмоционального, морально-нравственного мира живого человека. Неслучайно многие обороты такого типа первоначально используются как заклинания, заговоры, а позднее – как эмоциональные междометия, причем в последнем случае многие противопоставления (языческого и христианского, божественного и дьявольского и т. д.) стираются (ср.: Аллах / черт / дьявол забери! Ну его к богу, черту, дьяволу! Ну тебя, его к Богу, к черту, в рай! Иди, ступай к Богу, черту, бесу, в рай ). Тем самым именно сакральность (без конкретизации ее типа) мотивации оборота становится ядром формирования эмоциональных междометий.
Список литературы Сакрализация смерти в русской идиоматике
- Булыко А.Н. Фразеологический словарь русского языка. М., 2007
- Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2000
- Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1998
- Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. М., 2001
- Морковкин В.В. Идеографический словарь. М., 1970
- Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка (на материалах газетных публикаций). М., 2004
- Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М.: Яз. рус. культуры, 1997
- Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996
- Топоров В.Н. Пространство и текст//Текст: семиотика и структура. М., 1983
- Трубачев О.Н. Славянская этимология и праславянская культура//Историко-культурный аспект лексикологического описания языка. М., 1991