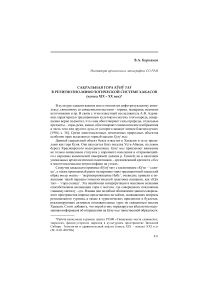Сакральная гора Куну Таг в религиозно-мифологической системе хакасов (конец XIX - XX век)
Автор: Бурнаков В.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIX, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522014
IDR: 14522014
Текст статьи Сакральная гора Куну Таг в религиозно-мифологической системе хакасов (конец XIX - XX век)
Данный сакральный объект более известен в Хакасии и за ее пределами как гора Куня. Она находится близ поселка Усть-Абакан, на левом берегу Красноярского водохранилища. Куну maF привлекает внимание не только священным статусом у коренного населения и открывающейся с вершины живописной панорамой долины р. Енисей, но и наличием уникальных археологических памятников - средневековой крепости с1бее и многочисленными петроглифами на утесах.
Созвучие хакасского оронима «Кÿнÿ тағ» с космонимом «Кÿн» – ‘солнце’, а также проводимый ранее на вершине горы традиционный хакасский обряд murip maйыF - ‘жертвоприношение Небу’, очевидно, привели к появлению такой народно-этимологической трактовке названия, как «Кÿн тағ» – ‘гора солнца’. Эта ошибочная интерпретация в массовом сознании способствовала ассоциации горы с местом, где совершалось поклонение главному светилу - кун . В наши дни подобное обозначение данного сакрального пространства широко представлено на сайтах, освящающих вопросы регионального туризма, а также в туристических проспектах и буклетах, рекламирующих активные познавательные туры по священным местам Хакасии. Стоит добавить, что порой в них тиражируется абсолютно надуманная информация об отправлении на Куну maF таинственной обрядности:
кровавого жертвоприношения некой «рыжей лошади» – олицетворению солнца, с последующим расчленением животного и разбрасыванием кусков по четырем сторонам света [Электронный ресурс…, 2013]. Реалии хакасской этнографии не подтверждают факт бытования данного ритуала.
Этимология названия священный горы Куну maF (букв. ‘гора ревности’ [Бутанаев, 1995, с. 55; Хакасско-русский…, 2006, с. 216, 571]) восходит к легенде о безымянном хакасском князе и двух его ревнивых женах. Текст этого фольклорного произведения впервые был опубликован еще в 1833 г. И.С. Пестовым в «Записках об Енисейской губернии» [1833, с. 68–69]. Позднее варианты легенды неоднократно публиковались другими исследователями [Костров, 1852, с. 23–24; 1884, с. 227; Бутанаев, Бутанаева, 2001, с. 74].
Согласно повествованию, ставка легендарного князя располагалась на обозначенной горе. Там же жили и две его супруги – «чудные красавицы, которые так ревновали одна другую, что никак не могли встречаться хладнокровно. Любя равно обеих, князь употреблял всевозможные меры, чтобы устранить всякое столкновение между ними, а потому держал одну жену на одной стороне горы, а другую – на другой. Но во время одной перекочевки, они, несмотря ни на какие предосторожности, сошлись и убили друг друга» [Костров, 1852, с. 24]. По легенде, на перевале, где произошла эта трагическая история, образовалась большая впадина (Архив МАЭС ТГУ. Д. 681-5. Л. 20). В ней на некотором расстоянии друг от друга и захоронили княжеских жен. Поверх могил соорудили большие каменные насыпи обаа .
С XIX в. об особом сакральном статусе Куну maF в культуре хакасов неоднократно сообщали многие исследователи. Так, И.С. Пестов по этому поводу писал: «Куна большая каменопесчанная гора, повыше устья реки Биджи, недалеко от впадения реки Абакана в Енисей, расстоянием на версту, где оная гора составляет как будто выгиб; на ней лежат две груды камней, называемые могилы, и друг от друга недалеко, на которые и поныне приезжающие Татары (хакасы. - В.Б. ) кидают по камешку или по прутику» [1833, с. 68–69]. Двумя десятилетиями позже подобную картину наблюдал окружной минусинский начальник Н.А. Костров: «Песчано-каменистая гора Куна лежит недалеко от впадения Абакана в Енисей. На ней, недалеко друг от друга, находятся две каменные возвышенности, называемые простым народом могилами. Если качинцу ∗ случается ехать мимо этих могил, то он останавливается, слезает с лошади, берет два камня и кладет по одному на каждую из могил» [1852, с. 23–24]. Соответствующие обрядовые действия, отправляемые местным населением в этой местности, были отмечены и Е.К. Яковлевым: «Почтением пользуются археологические памятники: могила на г. Куня <…>, мимо которых не проедет инородец, не сделавши приношения, не кинув на могилу ветки, камня, если нет в наличности молока, араги, хлеба» [1900, с. 112]. Схожие этнографические сведения о священной горе Куну maF в 1975 г. от информатора Р.И. Киштеева (1907 г.р.) удалось записать томской исследовательнице М.С. Усмановой: « Куну - это рев-
* Качинцы (хак. хаас ) – этническая группа хакасов.
ность. Там же на перевале есть большая яма. Вот как она образовалась. С двух сторон горы жили две женщины. Они подрались из-за ревности и убили друг друга. Там, где они боролись, образовалась яма, там же эти женщины и похоронены. Если я в первый раз проезжаю, то обязательно бросаю туда палку. И так каждый. Говорят, что если не бросишь, черти будут чудиться. Будто эти бабы и чудятся людям» (Архив МАЭС ТГУ. Д. 681-5. Л. 20).
Куну maF, как уже отмечалось, примечательна не только тем, что на ней располагались культовые сооружения обаа , но еще и традиционным общественным обрядом murip maйыF - ‘жертвоприношение Небу’. Одним из первых исследователей, обративших внимание на проводимый там местными жителями ритуал, был И.П. Корнилов. Он сообщал: «…и ныне инородцы избирают высокие места для моления и принесения жертв; таковы горы Изых и Кунэ в Качинской степной думе Минусинского округа» [Корнилов, 1854, с. 627]. По материалам этнографических исследований конца XIX – начала XX в., хакасы проводили ежегодное коллективное моление Небу в «июньское полнолуние» [Яковлев, 1900, с. 101–102; Лап-по, 1905, с. 47–49]. Обряд носил не родовой, а территориальный характер. Для отправления ритуала murip maйыF на горе Куну maF собиралось в большом количестве коренное население, проживавшее в долинах рек Абакан, Ташеба и Биджа. При этом принимать непосредственное участие и даже присутствовать на обряде могли только мужчины. Согласно традиции, женщины и даже животные соответствующего пола в это время не имели права находиться на священной горе [Яковлев, 1900, с. 101–102; Лаппо, 1905, с. 47–49].
Цель данного обряда – испрашивание у верховного божества Неба дождя, а также благополучия в семейной жизни, хозяйственной деятельности, удачи в делах и т.п. Е.К. Яковлев сообщал: «…все, кто пользуется благоволением “света”, у кого “скот плодится, добро не пропадает, дети ведутся”, приносят белых холощеных барашков с черными щеками, как благодарственную жертву; неудачники приносят умилостивительную жертву» [1900, с. 102]. «Это моление, по-видимому, должно служить благодарностью за оконченный период скотоводства, т.к. к этому времени все молодые животные подрастают, и количество приплода можно считать установленным» (Архив МКМ, ф. 1, оп. 1, д. 664, л. 35).
Сам обряд проходил следующим образом. Его участники посредством жильных ниток прикрепляли на головной убор белые и синие ленты - ча-лама. Поднявшись на гору, мужчины снимали ритуальные ленты и в знак подношения божествам подвязывали их на священную березу - пай ха-зын. Жертвенных баранов-валух кололи специфическим способом - озеп. Для этого у грудной клетки делался небольшой надрез, куда просовывали руку и обрывали аорту. После этого смерть животного наступала мгновенно. Туша свежевалась на земле. При этом следили, чтобы ни капли крови не пролилось на землю. Разделанное мясо и легкие клали в специальный большой котел и варили без соли. Шкуру вместе с кровью, внутренностями и конечностями сжигали на костре. Приготовленное мясо перекладывали на жертвенный стол - munci, изготовленный на месте из березовых ветвей. Его располагали у почитаемой березы [Яковлев, 1900, с. 102; Лаппо, 1905, с. 47–49].
Руководил обрядом уважаемый всеми старик, хорошо знавший обрядность и именуемый алғысчыл . Стоит отметить, в согласно хакасской традиции шаман не имел права на отправление ритуала murip maйыF . АлFысчыл брал в руки берестяную ложку ( тос сомнах ) и берестяную чашу ( тос аях ), наполненную кумысом (айраном, молоком, мясным бульоном) с творогом. Произнося молитвы, он делал подношение пищи Небу, а затем и сакральной березе. Это священнодействие происходило путем разбрызгивания жертвенной пищи ложкой вверх – к Небу, а потом и на само дерево. Далее руководитель со всеми участниками обряда, продолжая чтение молитвы-обращения, совершал троекратный обход березы по солнцу. Верующие в процессе кругового движения разворачивались лицом на восток, делали небольшую остановку, воздевали к Небесам руки и восклицали: «Ау! Ау!». Алғысчыл при этом с благопожеланиями плескал жертву по четырем сторонам света. Обряд заканчивался обильной трапезой, состоящей из мяса заколотых баранов, молочных и спиртных напитков. По окончанию праздника остатки пищи и кости сжигали в костре [Яковлев, 1900, с. 102; Лаппо, 1905, с. 47–49].
Представленный материал позволяет сделать вывод, что гора Куну maF в мировоззрении и обрядовой практике хакасов занимала важное место. Она воспринималась как сакральное пространство, связанное с культами обаа и Неба. Сакрализованное отношение к этой горе сохраняется по сей день.