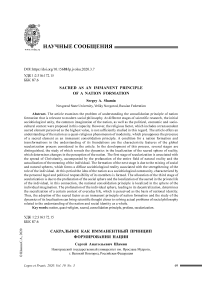Сакральное как имманентный принцип формирования нации
Автор: Шамин Сергей Анатольевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется актуальная для современной социальной философии проблема понимания консолидационного принципа формирования нации. На разных этапах научного исследования в указанном качестве предлагались: изначально данное, социобиологическое единство; общность воображения нации; политический, экономический и социокультурный контекст. Однако недостаточно исследованным в данном отношении оставался религиозный фактор, включающий трансцендентный сакральный элемент, воспринимаемый как наивысшая ценность. В данной статье предлагается понимание нации как квазирелигиозного явления современности, предполагающего наличие сакрального элемента в качестве имманентного консолидационного принципа. Условием для формирования нации и трансформации ее оснований является процесс глобальной секуляризации. В развитии данного процесса выделяются этапы, исследование которых обнаруживает динамику в локализации сакральной сферы реальности, обусловливающую изменения в восприятии нации. Первый этап секуляризации связывается с распространением христианства, сопровождающегося профанацией всей области природной реальности и актуализацией значения отдельной личности. Формирование следующего этапа обусловлено смешением социальной и природной сфер, образующим диффузную социобиологическую реальность, связанную с усилением роли индивидуального. Именно в этот период формируется представление о нации как социобиологической общности, характеризующейся личной правовой и политической ответственностью ее членов. Переход к третьему этапу секуляризации обусловлен профанацией социальной сферы и локализацией сакрального в области частной жизни индивидуума, в связи с чем национальный консолидационный принцип локализуется в сфере воображения отдельной личности. Профанация индивидуальной сферы, приводящая к ее децентрализации, обусловливает сакрализацию определенного контекста повседневности, воспринимаемого в качестве основания национальной идентичности. Таким образом, принятие фактора сакрального в качестве имманентного принципа формирования нации и исследование динамики его локализации способно приблизить научную мысль к решению актуальных проблем социальной философии, связанных с пониманием нации и социальной идентичности в целом.
Нация, квазирелигия, сакральное, консолидационный принцип, профанное, секуляризация
Короткий адрес: https://sciup.org/149131925
IDR: 149131925 | УДК: 1:2:316:172.15 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2020.3.7
Текст научной статьи Сакральное как имманентный принцип формирования нации
DOI:
Конец XX и начало XXI столетий ознаменовались социальными, культурными и политическими переменами общемирового масштаба. В значительной степени данные изменения реализовались в сфере социальной идентичности. Прежде всего это выразилось в отмирании идентичностей, казавшихся неизменными, и формировании новых, основанных на неизвестных ранее принципах консолидации. При этом формирование новых консолидационных установок не исключает существования стабильных, имеющих длительную историю социальных идентичностей. Однако устойчивые интеграционные принципы в условиях современной действительности реализуются и воспринимаются в ином качестве, что ставит перед исследователем проблему их понимания и определения. Одной из сложнейших в указанном отношении является проблема национальной идентичности.
В наиболее ранних научных трудах, посвященных изучению нации, в качестве объекта исследования рассматривалась статичная общность, реально описываемая в терминах биологии. Во второй половине XX в. данная парадигма подвергается острой критике, и нация преимущественно понимается как, не имеющий собственной сущности изначально данный или социально обусловленный инструмент, необходимый человеку для интерпретации окружающей действительности. Однако к концу столетия внимание большинства исследователей привлекает концепция конструктивизма, в крайних течениях которой нация понимается как искусственное образование, открытое для дальнейшей пересборки. Новейшие исследования нации осуществляются в рамках ситуационного подхода, согласно основным положениям которого процесс самоидентификации индивида обусловлен контекстуально.
В свете вышеизложенного актуальной проблемой современной социальной философии является вопрос о единстве явлений, описываемых термином «нация». Наиболее отчетливо данная проблема была поставлена Д. Холлом в труде «Национализмы: классифицированные и объясненные», где он утверждает: «Единая, универсальная теория национализма невозможна. Поскольку прошлое различно, различаться должны и наши концепции» [Hall 1993, 5]. При этом подтверждение или опровержение данного утверждения предполагает решение проблемы обнаружения принципов, на основании которых формируется национальная идентичность.
Термин «идентичность», воспринятый из психологии, в социальных науках призван обозначать «…один из аспектов интерпретации индивидом социальной реальности…» (Л. Грин-фельд и Дж. Иствуд [Greenfeld, Eastwood 2007, 256]). В данной работе он используется в значении, введенном авторами теории социальной идентичности Г. Тэджфелом и Дж. Тернером как «…знание индивида о том, что он принадлежит к некоторым социальным группам вместе с некоторой эмоционально и ценностно значимой для него групповой принадлежностью» [Tajfel, Turner 1986, 21].
Значительная неопределенность в понимании и объяснении феномена нации обусловлена, прежде всего, отсутствием среди специалистов единства по вопросу о природе исследуемого явления. Одни авторы истоки и основания консолидации нации предлагают искать в экономической, политической, социокультурной и пр. сферах общественной жизни, другие обнаруживают их в расовом и культурном многообразии, гендерной неоднородности, особенностях исторической памяти и пр. [Нехаев 2016, 36].
На наш взгляд, исследуя нацию, необходимо принимать во внимание религиозный фактор, учитывая его высокий интеграционный потенциал и взаимовлияние практически со всеми сферами человеческой жизни. Несмотря на это количество работ, утверждающих обусловленность формирования нации религией, крайне мало, и часто они ограничены исследованием институционального аспекта религии, что не позволяет охватить данное явление в целом. В значительной степени это обусловлено неопределенностью понятия «религия», включающим множество разнообразных явлений. Тем не менее, на стыке XIX– XX вв. формируется направление, эксплицирующее фактор священного как непременно присутствующий во всех явлениях, определяемых как религиозные. Так, согласно Э. Дюркгейму, «религия – это единая система верований и действий, относящихся к священным, то есть к отделенным, запрещенным, вещам…» [Дюркгейм 1998, 230]. Однако власть над людьми «священных вещей» обусловливает формирование таких социальных явлений, которые, не являясь религиями в привычном смысле, тем не менее в своей основе содержат представление о священном.
Л.Н. Митрохин в очерке «Нация и религия» при исследовании национальной мифологии выделяет в ней элементы священного и элементы ритуала, что позволяет говорить о «…перенесении логики религиозно-магического сознания на национальную мифологию…» [Митрохин 2000, 202]. В результате, согласно Митрохину, символ превращается в идол и нация становится объектом религиозного почитания.
Религиоподобные явления обозначались различными авторами как секулярные (Р. Арон), имплицитные (Э. Бейли), гражданские религии (Р. Белла) и пр. Но наиболее популярным среди исследователей религиоподобных явлений становится предложенный П. Тиллихом термин «квазирелигия». Введя термин «предельный интерес», по смысловому наполнению сходный с понятием «священное», Тиллих утверждает: «В секулярных квазирелигиях предельный интерес направлен на такие объекты как нация, наука… которые в этом случае рассматриваются как божественные» [Tillich 1963, 5]. И далее: «Если нация является чьим-либо предельным интересом, то… сама нация наделяется божественными качествами, которые во многом превосходят реальное бытие и жизнедеятельность нации» [Тиллих 1995, 161].
Проблема квазирелигий, среди которых стабильное место занимает нация, исследовалась также К.А. Колкуновой, А.П. Забияко и некоторыми другими отечественными авторами. При этом авторы либо рассматривали нацию в качестве примера квазирелигий современности, либо исследовали сакральные основания конкретной нации. Религиозные основания нации как общемирового явления современности не являлись специальным предметом социологических или социально-философских исследований.
Тем не менее, по глубокому убеждению автора настоящей статьи, именно исследование сакрального как имманентного принципа формирования нации, рассматриваемой в качестве религиоподобного явления современности, способно приблизить научную мысль к решению проблемы нации и национальной идентичности.
Попытка осмысления процесса национальной идентификации так или иначе приводит исследователя к необходимости поиска оснований данного явления в присущем человеку стремлении укорениться в бытии путем самоотождествления с некой группой «своих» и противопоставления ее множеству «чужих». При этом отправной точкой идентификации выступает сакрализация явлений, связанных с собственной общностью и воспринимаемых как священная сфера бытия, противостоящая сфере профанной, обыденной. Таким образом формируется представление о священной истории нации, священном языке нации, священной земле нации и т. д.
Онтологическое преимущество свя-щенного-сакрального по отношению к противостоящей ему профанной реальности, характеризующейся меньшей интенсивностью бытия, вызывает у человека стремление к сакральному, желание жить в нем или вокруг него [Элиаде 1994, 23]. Однако встреча с сакральным (теофания), воспринимаемая как разрыв привычного мира, вынуждает человека к переживанию пограничных состояний (экстаза, ужаса, восторга), а вхождение в сферу священного связывается с риском для жизни. В этой связи формируются традиции подготовки человека к встрече с сакральным, включающие обряды инициации, приобщения инициируемых к священной истории и т. д.
В рамках этих традиций и формируется указанное выше представление о двухчастном строении мира, включающем сакральное и профанное начало, где собственная общность полагается сакральным центром. Глобальное соотношение этих начал не стабильно, но их динамика осуществляется в направлении расширения сферы профанного за счет «сжимания», умаления области сакрального. Данный процесс исследуется в рамках теории секуляризации, понимаемой как глобальное расширение профанной сферы. Осмысление феномена секулярного развивается в различных направлениях, ведущим из которых, можно полагать выделение его имманентности, са-мозамкнутости, исключающей «трансцендентную надстройку» [Кырлежев 2012, 52].
В процессе секуляризации следует выделять несколько ключевых этапов. К первому из них относят исключение из сферы сакрального и профанацию всей области природной, естественной реальности. Это связывается с развитием христианского учения, противопоставившего свое мировоззрение языческому видению мира, основывающемуся на сакрализации природных явлений. Данные трансформации сопровождались формированием христианской религиозной традиции как основы социальной идентичности, ядром которой является теофания. Кроме того, в рамках христианской традиции зарождается представление о личном взаимоотношении человека с миром сакрального, сопровождающееся сознанием личной греховности и вины. Однако ценность отдельной личности оказывалась прямо обусловленной ее причастностью к традиции или, иначе, Церкви.
В этой связи следует указать, что профанация столь значительной сферы реальности, как мир природного, обусловливает постепенное наделение статусом сакрального отдельной человеческой личности, а, следовательно, и формирование особого отношения и внимания к внутреннему миру человека.
Вторым этапом секуляризации можно полагать начало постепенной профанации социальной сферы, неизбежно следующей за десакрализацией христианства. Согласно Ч. Тейлору, хронологические рамки данного процесса можно, с известной долей условности включить в период XVII–XIX вв. [Тейлор 2017, 525], когда сакральный христианский мир проникается профанной природной средой, образуя диффузную социобиологическую реальность. С.Г. Кара-Мурза отмечает присущую данному периоду жесткую натурализацию (биологизацию), сопровождающуюся «перенесением понятий из жизни животного мира («джунглей») в человеческое общество…» [Кара-Мурза 2015, 50]. Деление животного мира на виды и роды, согласно Кара-Мурзе, обусловило формирование теории этничности, в примордиальном ее варианте трактуемой как «объективная данность, изначальная характеристика человека» [Кара-Мурза 2015, 51].
К этому же периоду принято относить наполнение политическим содержанием понятия «нация», примордиальное определение которой в ключевых своих положениях совпадает с определением этноса. Однако принципиальным различием этих понятий является личная политическая и правовая ответственность членов национальной общности, в связи с чем некоторые представители примор-диалистского лагеря склонны полагать нацию одной из конечных стадий развития этноса [Чебоксаров, Чебоксарова 1985, 77].
Таким образом, условием зарождения нации можно полагать уникальное взаимосо-четание личного и общественного начала, возможность которого была обусловлена частичной профанацией социальной сферы человеческого бытия, сопровождающейся сакрализацией сферы частного, интимного существования. Представления о нации, ставшие возможными в указанный период, обусловлены открытостью десакрализуемой социальности к смешению с профанной природной реальностью, в связи с чем социальность в целом и социальная идентичность в частности ставятся в прямую аналогию с животным миром. Апогеем данного процесса можно полагать появление теории нации в условиях нацистского режима в Германии, в которой категории «нация» и «раса» сливаются в единое социо-биологическое образование. В целом для этого периода характерно определение нации как реально существующей социальной общности, включение в которую происходит механически, согласно факту рождения.
Третий период глобальной секуляризации можно отнести к концу XX столетия, когда происходит мощное усиление процесса профанации социальной сферы, сопровождающееся сакрализацией частной, приватной реальности. Механизмы возникающей в этой связи индивидуализации бытия современного человека широко исследованы и количество трудов, посвященных данной теме, непрестанно пополняется. Общим местом здесь становится фиксация процесса приватизации социальной сферы и экстраполяция явлений сферы интимного в сферу социального [Козырьков 2002, 132]. Кризис предыдущей «социобиоло-гической» парадигмы в данный период актуализирует критику «естественного порядка вещей» и стремление заменить его разумным порядком, обращенным к индивидууму и воспринимаемым как спланированная социальная конструкция. Данные утверждения становятся «визитной карточкой» социального конструктивизма, осуществляющего «коперниканский поворот» во взглядах на взаимоотношения личности и общества.
Для человека рассматриваемого периода социальный порядок, стремительно утрачивающий сакральный статус, уже не является незыблемой данностью, место в которой гарантирует личности уверенность в собственной необходимости. Напротив, наполняющийся сакральным содержанием внутренний мир субъекта воспроизводит нацию как такую общность, реальность которой обусловлена ее воображением [Андерсон 2001, 17].
Таким образом, священным основанием нации в данный период становится внутренний мир личности, создающий «национальную реальность» и воспроизводящий ее.
Под четвертым периодом секуляризации мы понимаем вторжение профанной действительности во внутренний мир индивидуума, вследствие чего он утрачивает целостность и фрагментируется. Проблема дробного восприятия реальности в настоящее время широко исследуется. Так, Ф.И. Гиренок вводит термин «клиповое сознание» и описывает реальность современного человека метафорой «лоскутное одеяло» [Гиренок 2018, 17].
Одним из первых исследователей, применивших теорию «дробной реальности» к пониманию национальной идентичности, стал отечественный исследователь А.И. Миллер, использовавший для обозначения нации понятие «метадискурс», которым обозначается единство слабо связанных между собой национальных дискурсов [Миллер 1995, 58]. В дальнейшем данные положения послужили основой для разработки ситуативных исследований социальности, в которых одной из основных категорий становится «контекст». Данная категория понимается как конкретное состояние среды, определяющее сознание человека [Гришина 2016, 61]. Национальная идентичность для человека данного периода утрачивает стабильность и воспринимается как «плавающая» величина в непрерывном процессе идентификации.
Внутренний мир современного человека уже не является последним прибежищем священного, каковым он воспринимался на исхо- де предыдущего столетия, но в результате профанирующего воздействия извне включает множество сакральных центров, связь между которыми не очевидна. Отсутствие единого сакрального центра обусловливает дробное восприятие действительности, когда каждое изменение культурного, политического и т.д. контекста формирует новую национальную идентичность.
Таким образом, понимание нации и национальной идентичности обусловлено особенностями восприятия сакральной сферы бытия. Исследование трансформаций в локализации сакрального, выявляет основные причины исторической динамики в подходах к проблеме нации. Формирование примордиального подхода предполагает локализацию сакральной сферы нации в социобиологической реальности. Сакрализация повседневности открывает пространство для социального конструктивизма. Выведение частной жизни человека из сферы сакрального вызывает тенденции децентрализации, исследование которых осуществляется с применением методов ситуационного анализа. Таким образом, основные выводы данной статьи могут быть использованы для дальнейших исследований динамики сакрального основания нации, что позволит приблизиться к решению проблемы национальной идентичности.
Список литературы Сакральное как имманентный принцип формирования нации
- Андерсон 2001 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс, 2001.
- Гиренок 2018 - Гиренок Ф.И. Клиповое сознание. М.: Проспект, 2018.
- Гришина 2016 - Гришина Н.В. Ситуационный подход: исследовательские задачи и практические возможности // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 16. 2016. №> 1. С. 58-68.
- Дюркгейм 1998 - Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. М.: Канон +: Наука, 1998.
- Кара-Мурза 2015 - Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. Учебник межнациональных отношений. М.: Алгоритм, 2015.
- Козырьков 2002 - Козырьков В.П. Частная жизнь личности и приватизация культуры // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2002. N° 1. С. 125-138.
- Кырлежев 2012 - Кырлежев А.И. Постсекулярная концептуализация религии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 52-69.
- Миллер 1995 - Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема // Полис. 1995. № 6. С. 56-61.
- Митрохин 2000 - Митрохин Л.Н. Нация и религия // Митрохин Л.Н. Религия и культура: философские очерки. М.: ИФ РАН, 2000. С. 185-212.
- Нехаев 2016 - НехаевА.В. Теории наций и нацио-нализмов: проблема классификации // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. 2016. № 2. С. 36-46.
- Тейлор 2017 - Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ, 2017.
- Тиллих 1995 - Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М.: Юрист, 1995.
- Чебоксаров, Чебоксарова 1985 - Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Расы, народы, культуры. М.: Наука, 1985.
- Элиаде 1994 - Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.
- Greenfeld, Eastwood 2007 - GreenfeldL., Eastwood J. National Identity. N. Y.: Oxford University Press, 2007.
- Hall 1993 - Hall J. Nationalisms: Classified and Explained // Daedalus. 1993. № 3. P. 1-28.
- Tajfel, Turner 1986 - Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behavior. // S. Worchel & W. G. Austin (eds.). Psychology of Intergroup Relations. Chicago, IL: Nelson-Hall. 1963. Р. 7-24.
- Tillich 1963 - Tillich P. Christianity and the Encounter of the World Religions. New York: Columbia University Press, 1963.