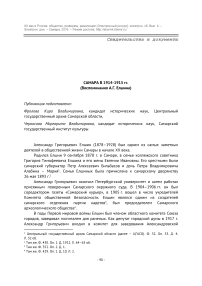Самара в 1914-1915 гг. (воспоминания А.Г. Елшина)
Автор: Фролова Кира Владимировна, Черкасова Маргарита Владимировна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Свидетельства и документы
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Публикация воспоминаний А.Г. Елшина о жизни Самары в 1914 - первой половине 1915 г.
Первая мировая война, самара, общественные настроения, госпитали, турецкие военнопленные
Короткий адрес: https://sciup.org/140129687
IDR: 140129687
Текст научной статьи Самара в 1914-1915 гг. (воспоминания А.Г. Елшина)
Александр Григорьевич Елшин (1878–1928) был одним из самых заметных деятелей в общественной жизни Самары в начале XX века.
Родился Елшин 9 сентября 1878 г. в Самаре, в семье коллежского советника Григория Тимофеевича Елшина и его жены Евгении Ивановны. Его крестными были самарский губернатор Петр Алексеевич Бильбасов и дочь Петра Владимировича Алабина – Мария1. Семья Елшиных была причислена к самарскому дворянству 26 мая 1893 г.2
Александр Григорьевич окончил Петербургский университет и затем работал присяжным поверенным Самарского окружного суда. В 1904–1906 гг. он был соредактором газеты «Самарский курьер», в 1905 г. вошел в число учредителей Комитета общественной безопасности. Елшин являлся одним из создателей самарского отделения партии кадетов3, был председателем Самарского археологического общества4.
В годы Первой мировой войны Елшин был членом областного комитета Союза городов, заведовал госпиталем для раненых. Как депутат городской думы в 1917 г. Александр Григорьевич входил в комитет для заведования Александровской
Свидетельства и документы
публичной библиотекой5. После Февральской революции 1917 года – член исполкома Комитета народной власти. Александр Григорьевич собрал большую книжную коллекцию, часть из которой хранится в настоящее время в Самарской областной библиотеке. В 1918 г. подготовил и издал «Самарскую хронологию» – хронологический справочник по истории Самарского края6. Осенью 1918 г. выехал в Иркутск. Умер 27 марта 1928 г.
В Центральном государственном архиве Самарской области хранится личный фонд А.Г. Елшина. Фонд поступил на хранение в 1926 г. В 1976 г. из Государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР в Государственный архив Куйбышевской области были переданы 7 дел для присоединения к фонду А.Г. Елшина.
В составе фонда есть документы о профессиональной деятельности Елшина, собранные им материалы по истории Самары, документы, отражающие его политическую деятельность в качестве члена самарской организации партии кадетов, а также дневниковые записи и воспоминания. Именно к последнему виду документов можно отнести два дела из состава фонда. Одно из них представляет собой краткие записи о важных событиях из семейной, профессиональной и общественной жизни Александра Григорьевича, сделанные им приблизительно в 1911–1916 гг.7 Второе дело – это собственно воспоминания Елшина, которые предположительно были написаны им на основе кратких записей8. Первая часть воспоминаний, которая публикуется в настоящем издании, была написана Елшиным 29 апреля – 12 мая 1918 г. и посвящена его жизни во второй половине 1914 – первой половине 1915 г. Повествование обрывается на событиях начала лета 1915 г. Вторая часть посвящена событиям июня–июля 1918 г., когда Самара находилась под властью Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.
Воспоминания Елшина являются одним из немногочисленных источников личного происхождения о жизни Самары в самом начале Первой мировой войны. Ранее его воспоминания публиковались лишь частично9.
Свидетельства и документы
В данной публикации текст воспроизведен по нормам современного правописания с сохранением стилистических и языковых особенностей подлинника. Устранены орфографические ошибки и описки. В текстуальных примечаниях оговариваются случаи, когда фрагменты не поддаются прочтению. Пропущенные в тексте слова или их части воспроизведены в квадратных скобках. В текстуальных примечаниях указывается современное местоположение исторических топонимов, даты событий, затрагиваемых в повествовании, даются краткие биографические справки на деятелей, которых упоминает А.Г. Елшин.
Воспоминания А.Г. Елшина
Уже 4 года, как наступило «историческое» время, начались события, достойные записи в памятную книжку.
И я тогда же намеревался записывать свои впечатления и наблюдения, учитывая всю серьезность и важность того, что происходит вокруг и вообще на белом свете. Нередко меня сильно тянуло к тетради, была большая потребность высказаться совершенно откровенно, разгрузиться. Вот такая потребность – совершенно естественна даже при более ординарной и ровной жизни. Но теперь неустанно появились опасения: а что если записи попадут в ненадлежащие руки, которые исследуют их ненадлежащим образом.
Это было так вероятно и так возможно.
Условия нашей гражданской жизни таковы, что такой пассаж может в любой момент приключиться. Это было при «старом» режиме. Это, увы, сохраняется и при новом строе. И обычно мысль о такой опасности и возможности немедленно расхолаживала даже самое сильное желание, и приходилось бросать эту мысль.
Приходилось отказываться от этого столь естественного желания, ибо ведение записей возможно лишь при одном условии – непременной откровенности и полном отсутствии каких-либо посторонних соображений.
Война свалилась на нас как гром в ясную погоду. Жизнь протекала спокойно, без каких-либо шероховатостей и без особенных событий.
Некоторые явления в международной жизни на короткое время останавливали мое внимание на себе, но все это не давало очень серьезных оснований для каких-либо чрезвычайных ожиданий. Как не обращают наше внимание некоторые колебания в состоянии больного при хронической или затянувшейся болезни. Война, различные кризисы в международной жизни бывали и раньше; напряжения же шли непрерывно и с середины девятьсотдесятых10 годов. За эти 20 лет ожидания
Свидетельства и документы
притупились и все как будто перестали даже верить в возможность наступления ожидаемого события. Оно просто стало казаться уже маловероятным. И когда оно наступило, получилось впечатление полнейшей неожиданности. Так, по-видимому, бывает с людьми, живущими близ вулкана, который, как всем известно, в любой момент может начать действовать и даже непременно должен начать свое разрушительное действие, и, однако, все прожившие более или менее продолжительное время около него как-то перестали тревожиться и думать о возможности катастрофы. И она всегда и бывает и кажется неожиданной и внезапной.
Я отлично помню, что осложнения, предшествовавшие наступлению катастрофы, не вызывали бо́льших опасений, чем многие до того бывшие происшествия в международной жизни. Помню, что были разговоры по поводу осложнения, произошедшего у Сербии и Австрии, но эти разговоры не выходили из границ более или менее обычного в политике. Неожиданный ультиматум Австрии приковал к себе внимание и заставил насторожиться; но ответ Сербии и ее покорность быстро успокоили общественное мнение, и в то же время, помнится, вызвали какое-то подавленное настроение, которое является обычно после показанного унижения: было ясно, что унижение Сербии есть, главным образом, унижение России.
И вдруг – события приняли характер катастрофы.
Мы жили в то время на даче близ Самары – в саду Хованских – 1-я просека11.
Стояло теплое время. Я по обыкновению утром часов в 6½ отошел с дачи и направился к конке с тем, чтобы ехать в город.
Проходя мимо дач, я услышал обрывок разговора: «…и у нас увели лошадь», – сказали что-то такое. Я подумал: «Неужели конокрады объявились в нашей местности». Вышел к линии конки – вагона нет; там уже несколько человек ожидало вагон.
Некоторые, постояв немного, направились пешком к городу. Я скоро сделал то же.
И вот шли мы мимо Трубочного завода12 и затем открытым лугом гуськом и
Свидетельства и документы
думали – а чего это конки нет. И, наконец, проходя мимо Монастырского поселка13, я первый раз после японской войны услышал зловещее слово: «Мобилизация!» Так вот почему увели с дач лошадей; вот почему конка остановилась.
В сильнейшем возбуждении я чуть не бегом приближался к городу. Недалеко от Молоканского сада14 меня нагнал извозчик, и я стал нанимать его; он согласился довезти меня только до Воскресенской площади15, где, по его словам, идет приемка лошадей в армию.
Я торопился найти газету и узнать подробности.
На Воскресенской площади было людно и шумно: отовсюду приближались лошади, люди. Около здания 5-й части16 комиссия спешно осматривала лошадей – принимала и браковала. У Воскресенской церкви я слез с извозчика и пошел к центру. Извозчиков что-то не было, и вообще на улицах было необычно. Кажется, на Алексеевской ул.17 близ Саратовской18 я нашел телеграммы с указом о мобилизации и некоторыми сообщениями, объяснявшими в некоторой степени последние события.
Читая на ходу телеграмму, я шел по Дворянской ул.19, которая казалась как всегда утром такой чистой, красивой.
Я жил в то время на Дворянской около Успенской20, соответственно, прошел из Молоканского сада буквально весь город.
Войдя в квартиру, я, кажется, уже не застал брата; а я дорогой еще подумал, что ему придется идти на войну, как запасному. Когда я с ним увиделся, – помнится, я прежде всего выяснил, когда ему придется явиться к воинскому начальнику. Он мне сообщил, что у воинского нач[альни]ка большая толпа, и, вероятно, не раньше трех дней ему придется там болтаться. Затем я просил его определить, что ему понадобится для похода; он заявил, что, прежде всего, сапоги, так как казенные сапоги могут оказаться не по ноге, а затем нужны часы на руку и немного белья.
Свидетельства и документы
Надо сказать, что в это время я занимал квартиру в доме Колесникова Ник[олая] Фил[ипповича]21 по Дворянской ул. в доме № 3122. Этот дом он только что продал Шварцу23, кот[орый] заявил мне, что он увеличит плату; вообще он мне не понравился, и я стал искать новую квартиру; этим я был занят с того момента как переехал на дачу к Хованским (1-я просека); кроме того, в начале июня в Самару приехали А.Ф. Керенский24 и Н.В. Некрасов25. Я у них был в номере. Они останавливались в гостинице «Националь» на углу улиц Саратовской и Панской26; туда я был приглашен, и, помнится, они издалека завели разговор о какой-то существующей в России политич[еской] организации, охватывающей все прогрессивные партии. Я быстро сообразил, что они хотят меня завербовать в эту организацию. Затем мы условились, что они придут ко мне на другой день утром. На другой день разговоры пошли дальше – выяснилось, что речь идет о масонстве. Меня это чрезвычайно удивило, так как я полагал, что эта организация с ее ритуалами давно минувших времен уже давно не существует. Наш разговор кончился тем, что я дал согласие на вступление в масонство.
Принятие было назначено в квартире В.А. Кугушева27 – Казанская ул., д. 30, дом Субботина28. Для меня будет несомненно, что Алихан Букейханов29 также
Свидетельства и документы
состоит в братстве, ибо он вначале играл роль посредника между мной и Керенским и Некрасовым.
На другой день утром я пришел к Кугушеву. Алихан провел меня в дальнюю комнату с балконом на двор и сказал, что по «правилам устава» я не могу пока никого из собравшихся «братьев» видеть.
Затем он принес мне вопросный листок – об отношении к самому себе, к семье, к обществу, государству и человечеству, – и предложил дать письменные ответы. И сам удалился. Через некоторое время он пришел, и я передал ему заполненный мною листок, и он сказал мне, что «братья» рассмотрят мои ответы и решат, могу ли я быть принят по своим убеждениям.
Через ¼ часа он возвратился и сказал, что порядок приема пойдет дальше; и предложил подождать в таком положении некоторое время и не снимать без него повязку.
Через некоторое время я услышал шаги вошедших людей, и затем голос Керенского заявил мне, что я нахожусь перед делегацией Верховного Совета братства масонства; было задано мне несколько вопросов, и затем стоя я повторил за Керенским клятву.
После этого с меня сняли повязку, меня все трое поздравили (помнится – Кугушева не было в Самаре), и мы расцеловались по-братски.
Кажется, прямо оттуда мы все пошли на пароход «К[авказ] и М[еркурий]», на котором Кер[енский] и Некр[асов] уезжали в Саратов.
Это было 12 июня 1914 г.
Мы торопились на пристань, так как теплоход уходил в 2 ч[аса] дня. На пароходе уже были некоторые «народники» – кажется, Овсянкин30 и еще кто-то.
Я по преимуществу ходил по палубе с Некр[асов]ым и говорил по разным политическим вопросам; Керенский же нацепивши какой-то красный цветок, оживленно бегал по палубе. Они нас угостили малиной или клубникой с молоком, и мы стали прощаться. Я с Алиханом едва успели отбежать с парохода: на ходу внизу вскочили на пристань. Их приезд у меня отнял почти 3 дня. В это же время приблизительно я дал 100 р[ублей] задатка Гринбергу31 и снял квартиру в его доме по Соборной ул.32 под № 10233 близ Троицы34.
Свидетельства и документы
Как только квартира была готова, я стал упаковывать свою библиотеку: связывал пачками; то же делали брат с письмоводителем; в купленные ящики я клал более ценные книги.
Так шло почти неделю, и я уже уложил почти все книги, бумаги и письма.
И вот, когда надобно было уже переезжать, вдруг разражается мобилизация, и переезд стал невозможен – лошадей, извозчиков не стало.
Так шло два-три дня: все было уложено, заниматься не было возможности, а переезд задерживался на неопределенное время.
Наконец, кухарка Настасья где-то наняла 2 подводы с татарами. И я начал перевозиться.
Так как подвод было слишком недостаточно – переезд занял несколько дней. Основная возня была с книгами, которых было 83–85 больших связок и 7–8 больших ящиков; затем были громоздкие вещи – буфет, несгораемый шкаф и умывальник.
Для части тяжестей татары-ломовики пригласили нескольких товарищей.
Наконец, эта перевозка окончилась. И я начал устраивать свой кабинет, чтобы иметь возможность приступить к работе; остальные комнаты оставались в хаосе.
Я ежедневно ночевал на даче и рано утром направлялся в город.
Иногда приходилось возвращаться поздно. Помню, в первое время войны было устроено совещание местных интеллигентов, кажется на квартире Кугушева В.А. (Казанская ул, д. 30 Субботина) для обмена мыслей по вопросам, связанным с войной. Совершенно не сохранилось в памяти о чем мы говорили; помню лишь: там были к[онституционные] д[емократы] и народники; с[оциал]-д[емократов] как будто не было.
Помню также, [что] с совещания несколько человек из нас направилось на дачный пароход – кажется, в том числе В.В. Кирьяков35; помню – на пристани мы узнали о занятии немцами Калиша, Ченстохова и Бендина36 (кажется так); помню, я был очень обескуражен этим успехом немцев и придавал серьезное значение ему. На «Головкинской» пристани37 я сошел на пристань с 2–3 незнакомыми лицами; мостки у пристани были поломаны, и мы с трудом по бревнам перебрались в темноте на берег.
Придя на дачу, это было уже в 1 ч[ас] ночи, я несколько раз звал Хованского, желая сообщить свежую новость о продвижении немцев. Но он, очевидно, спал, и я отправился к себе на дачу – мы тогда занимали самую большую дачу в саду
Свидетельства и документы
Хованских. В первые же дни войны я узнал, что брат принят на службу, и мы стали собирать его.
Его семья переселилась также в дом Гринберга (она жила с переездом домашних на даче в моей квартире) – в дальней комнате. За это время новых призванных стали формировать в новые полки38 – в Самаре вновь сформировался 329-й Бузулукский полк39, куда попал и мой брат.
В Самаре вообще было громадное скопление запасных – они заняли ряд зданий, и все-таки не помещались все; по случаю жаркого времени они спали прямо во дворах, прямо на земле и далее на улицах на тротуарах около занимаемых ими зданий.
По просьбе брата я выдал деньги на новые сапоги, купил часы-браслет, кое-что из белья и дорожных вещей. 6 авг[уста] вечером я предполагал издали проститься с ним – его эшелон уезжал 7-го утром. Он сообщил мне, что им объявили и направление – в Проскуров40; впоследствии выяснилось, что это заведомо неверное направление было объявлено с целью ввести в заблуждение шпионов. Их отправили к Ивангороду41 и, как потом узнал из писем брата, они через несколько часов после приезда отправились в бой против австрийцев, наступавших на Холм и Люблин42.
Насколько помнится, первым поехал на войну гусарский Александрийский полк43.
После Бузулукского поехал Рымникский полк44; поехал и Никол[ай] Павл[ович] Торанов45.
Я помню – почти все полагали, что война будет непродолжительна – 4–6 мес[яцев], и что некоторые части, несколько задержавшиеся в Самаре, и отдельные лица, поехавшие не в первую очередь, могут попасть «лишь к шапочному разбору».
И я помню также, как многие были чрезвычайно обескуражены сообщением о занятии немцами Ченстохова и двух других городов на самой дальней границе Польши с Германией, считая это занятие успехом германцев чуть ли не равносильным проигрышу войны. Вообще все ступали в эту эпоху необыкновенно наивными, непосредственными людьми. Никто не представлял, как много потрясений придется пережить, какие ужасы стоят и ожидают нас, и какую пустоту они внесут в наши души. Ни один мудрец не мог предсказать, что через 3–4 года
Свидетельства и документы
после всего пережитого мы станем стариками, развалинами, упавшими и не вынесшими тяжести и ушибов после совершившегося.
В первые месяцы войны в газетах прошла фраза какого-то государственного деятеля запада: «победит тот, у кого окажутся нервы более крепкими». Эту фразу повторяли, но не понимали; ей не придавали настоящего значения.
И только теперь она стала понятна во всем своем реальном значении и глубоком смысле. Нам эта формула стала ближе, чем кому-либо, понятна, ибо мы оказались совершенно раздавлены событиями – мы оказались слишком маленькими людьми в сравнении с этими событиями.
Я припоминаю или стараюсь припомнить настроения первых месяцев войны.
Несомненно было одно: значительное общее оживление. Оживление, вызванное разными причинами. Большинство оживилось стремлением работать для государства – чувствовало и сознавало потребность и необходимость участвовать в общем деле.
Некоторые, по преимуществу из левонастроенной интеллигенции, были оживлены необходимостью разрешить и установить свое отношение к свершившимся событиям с точки зрения своих узкокорыстных или социалистических и интернационалистических мировоззрений.
Эта братия чувствовала себя вне государственной жизни и по своему восприятию и всему прошлому физически не могла встать на точку зрения государственных интересов. Так как события не совсем укладывались в обычные формулы, на которых была натаскана эта публика сызмальства, началась значительная разноголосица в этом лагере. Часть, наиболее стремившаяся держаться своих привычных догматов и разрешавшая все явления действительной жизни вне времени и вне пространства, объявляла войну войне. Часть желала по примеру Японской войны поражения России, рассчитывая таким образом добиться ослабления государства и государственной власти и через то – возможности успешной борьбы со старым порядком и старой властью.
Это были пораженцы, и их было всего больше в социалистических группах. Некоторые не знали, как им держаться, и занимали выжидательную позицию – и были в нейтралитете.
Наконец, часть старалась показать, что война это дело господствующих классов и им чуждое, и были или в пассивном сопротивлении власти или, в лучшем случае, занимали положение людей, находящихся в нейтралитете.
Но значительная часть интеллигенции рвалась на работу, сознавая, что она фактически не может находиться вне этой ситуации, стоять за бортом жизни. И когда появились Союзы – городской и земский, а они явились очень скоро, эта интеллигенция, государственно-настроенная, бросилась в это дело. Стали появляться
Свидетельства и документы
госпитали, патронаты, стали собирать средства на шитье белья солдатам, открывались продовольственные пункты на вокзалах для проходящих эшелонов.
В Самаре быстро образовался областной комитет Союза городов и губернский комитет Земского союза. Во главе их стали уполномоченные того и другого Союза.
Потекли пожертвования. И тоже было, доходило даже до увлечений. Сам[арская] гор[одская] дума по предложению Челышева46 ассигновала 1 миллион, хотя было ясно, что город вследствие тяжелого финансового положения не сможет дать этих денег. И этот миллион так и остался красивым жестом, результатом порыва: он не был дан в действительности.
В областном комитете Союза городов уполномоченными были С.Е. Пермяков47 и П.Л. Кузьмин48; в губернском земском комитете – Иньков49 и Н.А. Самойлов50.
Вся осень ушла на открытие госпиталей (Гор[одского] союза) и лазаретов (Земского союза). Была организована перевозка раненых с вокзала по госпиталям, и это было поручено областному Союзу, организовавшему для этого целый обоз; к этому же обозу был привлечен целый отряд велосипедистов, организовавший по системе жандармского полковника Познанского51 перевозку тяжело раненных на велосипедах, попарно соединенных. Распределительный лазарет, куда поступали с вокзала раненые и больные, был оборудован земским комитетом.
Лично моя работа сосредоточилась по Городскому союзу: я стал членом обл[астного] комитета и оборудовал 3-й госпиталь на углу Троицкой52 и ул. [Л.] Толстого и в то же время был заведующим. Работа по госпиталю шла усиленно: я привлек к тому же ряд знакомых дам, сам ежедневно бывал там по нескольку часов. Госпиталем я горячо увлекался. Даже теперь приятно вспомнить хлопоты по госпиталю: как оборудовал, как делал запасы на зиму, рубил капусту, и особенно как принимал первые партии раненых; помню хлопоты по устройству
Свидетельства и документы
развлечений для раненых, по заготовке и раздаче рождественских подарков раненым. Вообще эти хлопоты – приятные воспоминания.
В начале января [1]915 г. я съездил в Саратов – в Палату53 – кажется, на 10 янв[аря]. И вот на обратном пути я узнаю, что движутся с Кавказа, направляясь в Сибирь, эшелоны пленных турок, взятых главным образом в бою под Саркамышем54. Везут, по рассказам железнодорожников, в ужасном виде: больные дизентерией, тифами умирают, загрязняют пути, необутые, изможденные. Рассказывали прямо ужасы. Впоследствии все это не только подтвердилось: в действительности ужасы оказались большими, чем о них рассказывали.
По приезде в Самару пришлось почти тут же выйти в самую гущу вопроса о военнопленных, несших с собою разные эпидемии.
Помнится, было устроено совещание в гор[одской] Управе; на этом совещании уже поднимался вопрос о занятии моего госпиталя бандитами-турками. Я протестовал. И это удалось. Было решено в первую очередь занимать Дунаевский бывший завод55.
Конечно, спешно [принялись] за флигели завода и самое заводское здание и поставить койки56.
Но еще ничего не было готово, как стало известно, что к вечеру 18–19 окт[ября] приедут на завод турки. Флигеля лишь протопили и полы постелили соломой.
Я видел и принимал эту партию. Большинство было без верхней одежды, многие без обуви; а один даже без панталон – в одной рубашке. Их привозил[и] на наших разводках – озябшими и голодными; многие были с отмороженными конечностями, были больные. В этот вечер я распорядился привезти в больших бидонах кипяченое молоко, кружки были уже закуплены. Имелось кое-что из белья и одеяла; я распорядился раздать кому панталоны, кому рубашку, кому туфли, кому одеяла. При мне раздавали еще теплое молоко с калачом.
Много было серьезно больных, и даже не все хотели или могли есть. Впрочем, молоко пили с удовольствием.
С сегодняшнего дня из 3-го госпиталя привозили обеды – только горячее и молоко.
Свидетельства и документы
Через 1–2 дня была оборудована медицинская помощь: врачом там назначен был доктор Месяцев, вскоре заразившийся сыпным тифом и умерший, в то время когда я уже был болен.
Вскоре Дунаевский госпиталь оказался перенаселенным, а на станции стояли составы с больными турками.
Решено было занять ими 15-й лазарет Земского союза, его заведующим был Ярослав Сахаров; и вскоре заняли и мой госпиталь, хотя я очень сильно воевал против этого.
Числа 22 января [1]915 г. я принимал у себя 17-ю партию больных турок. Из медицинского персонала при этом участвовала лишь фельдшерица Пушистова и 2–3 сестры милосердия. Санитары некоторые тут же уволились, привезенных турок пришлось мыть в ваннах сестрам милосердия. Стриг их китаец-швейцар.
Одним словом, если бы не самоотверженность некоторых из персонала, госпиталь оказался бы не в состоянии провести прием загрязненных, голодных и больных турок.
Врачи осматривали больных лишь вечером – когда все турки чистые, одетые попали на койки.
Тут я вероятно и заразился сыпным тифом.
Я сделал еще 2 приема больных турок.
31 янв[аря] [19]15 г. вечером я почувствовал недомогание. В четверг 5 февр[аля] я слег. Настоял на переселении домашних к Тороповым57.
В ночь с 10 на 11 февр[аля] – едва не умер: очевидно врачи считали меня безнадежным, и по городу пошел слух о моей смерти.
Провалялся я до 2 марта, когда немного поседел.
8 марта переехал к Тороповым на время дезинфекции в квартире.
За время болезни моей умерла кастелянша Сиднева, фельдшер, …58, горничная, китаец, сестра милосердия – все заразились одновременно со мною.
Эта эпидемия сыпного тифа навела панику на город. Умерло от сыпного тифа 5–6 врачей, 11 фельдшеров и фельдшериц, человек 13–14 сестер и человек 75 низшего персонала госпиталей и лазаретов. Турок перемерло от разных эпидемий очень много, говорили не меньше 1 500 человек.
Я начал работать лишь после пасхи.
Вскоре стали поступать с фронта тревожные слухи и сообщения: говорили о полном недостатке снарядов, винтовок, снаряжения.
Свидетельства и документы
3 июня я поехал в Петроград на конференцию59. Дорогой встреченные эшелоны раненых подтверждали громадный недостаток снарядов и пр.
Стали говорить о мобилизации нашей промышленности. Вскоре создался Военно-промышленный комитет. Затем появились Комитеты по снабжению и снаряжению армии Городского и Земского союзов.
Забыл упомянуть, что в конце апреля я исполнял обязанности уполномоченного Гор[одского] союза в Самаре и председателя Сам[арского] Областного Комитета60.
ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 3. Л. 2–18 об.
Список литературы Самара в 1914-1915 гг. (воспоминания А.Г. Елшина)
- Зубова О.В., Калягин А.В. «По чьему-то великому и преступному недомыслию...» (Турецкие военнопленные в Самаре, 1915 год)//ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электрон. сб. Вып. 3. Самара, 2015. С. 131-132.
- Лычева А.В. Книжное собрание А.Г. Елшина//Библиосфера. 63: Информационный бюллетень для специалистов муниципальных и государственных библиотек. Вып. 16. Самара: ГБУК «СОУНБ», 2015. С. 210-215.
- Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 -февраль 1917 гг. Сборник документов/сост. О.В. Зубова (отв. сост.), Г.В. Галыгина, В.И. Гольцов, А.В. Калягин, К.В. Фролова, В.В. Шестерикова, Н.Ю. Шешунова. Самара: ООО «Медиа-Книга», 2014. 732 с.