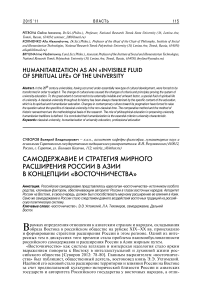Самодержавие и стратегия мирного расширения России в Азии в концепции «восточничества»
Автор: Суворов Валерий Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 11, 2015 года.
Бесплатный доступ
Российское самодержавие представлялось идеологам «восточничества» источником особого родства, ключевым фактором, обеспечивающим авторитет России в глазах восточных народов. Авторитет России на Востоке, в свою очередь, должен был способствовать мирному расширению ее влияния в Азии. Само же самодержавие в России стало следствием давнего воздействия восточных традиций на российскую политическую систему.
"восточничество", э.э. ухтомский, л.а. тихомиров самодержавие, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/170167720
IDR: 170167720
Текст научной статьи Самодержавие и стратегия мирного расширения России в Азии в концепции «восточничества»
В рамках определения отношения к азиатским странам и народам, складывания образа Востока в российском обществе на рубеже XIX–XX вв. происходило и формирование стратегии расширения России в этом регионе. Одной из интересных тем в дискуссиях того времени стала проблема взаимообусловленности российского самодержавия и расширения России в Азии мирным путем.
«Восточничество» как система взглядов и имперская идеология стало ярким выражением поворота к Востоку в интеллектуальной и духовной жизни российского общества [Суворов 2012: 78-80]. Главным выразителем «восточниче-ства» был публицист, общественный деятель, востоковед князь Э.Э. Ухтомский. Идейной его основой стало расширение территории и влияния России на Востоке за счет предполагаемой культурно-исторической близости России и азиатских государств и авторитета Российского государства у восточных народов, а отли- чительной особенностью выступал исключительно мирный способ достижения этой цели.
Ухтомский, определяя позицию издаваемой им с 1896 г. газеты «Санкт-Петербургские ведомости», подчеркивал, что Восток «сознает ‹…› свое глубокое духовное сродство с молодою, здоровою, самобытною Россией, светлым олицетворением и желанным символом которой является Самодержавный Белый Царь» 1 . По мнению Ухтомского, самодержавная власть и религиозное почитание царя, несущие в себе как политический, так и духовный смысл, выступали источником глубинного родства, ключевым фактором, который и определял авторитет России в глазах восточных народов: «Без него [самодержавия] Азия не способна искренне полюбить Россию и безболезненно отождествиться с нею» [Ухтомский 1897: 33]. Поэтому, по мнению Ухтомского, восточные народы инстинктивно стремятся под покровительство русского самодержца, о чем князь неоднократно писал в своих работах.
Отмечалась и обратная связь. Говоря о происхождении самодержавия в России, Ухтомский отмечал, что именно благодаря Азии, которая «крушила и обновляла» Русское государство, «русское мировоззрение выработало образ Христианского Самодержца, поставленного провидением превыше суеты земной, средь сонмища иноверных, но сочувствующих ему народностей »2 [Ухтомский 1897: 32]. Власть и сам образ самодержца в представлении Ухтомского освящались высшей религиозной идеей, что было характерно для российского консерватизма в целом. Несмотря на различные оценки политических взглядов Ухтомского, существующие среди исследователей, вплоть до отнесения его либералам, нужно признать, что до конца жизни он оставался сторонником самодержавия, но, осознавая необходимость его обновления, выступал с умеренной критикой неприемлемых для него сторон общественной и государственной жизни [Суворов 2011а; 2011б].
Князь считал, что население Тибета и Монголии на рубеже XIX–XX вв. уже готово было перейти под покровительство Российской империи [Ухтомский 1900: 49]. В письме к Николаю II от 26 мая 1900 г. Ухтомский прогнозировал, что этот «странный монголо-тибетский мир с каждым годом отныне призван привлекать все большее внимание России» 3 . Однако в то же время он отмечал, что «остальные подданные богдыхана – инертная пока масса» [Ухтомский 1900: 49]. Поэтому, чтобы установить над ними влияние, необходимо мирное взаимодействие, без обострения отношений и территориальных захватов. В записке о положении Кореи, написанной еще в феврале 1897 г., Ухтомский высказывал опасения, что захваты России в Китае для постройки железной дороги могут вызвать серьезные проблемы для России: «многие лица… встретят захват Манчжурии рукоплесканиями ‹…› между тем, подобный захват поставит Богдохана с собственным Китаем во враждебное к нам отношение» 4 .
Понимание взаимосвязи самодержавного строя и успеха России в Азии через мирное расширение влияния особенно актуализировалось в период восстания ихэтуаней в Китае, когда возникла проблема военного вмешательства России для подавления восстания. Ухтомский последовательно отстаивал идею неприемлемости военных действий со стороны России, так как это, по его мнению, подрывало авторитет российской власти в Китае. Находясь в ноябре 1900 г. в Пекине, князь в телеграмме писал С.Ю. Витте: «Роль России, вершительницы судеб Китая, по какому-то недоразумению, ощутительному здесь однако для всех, становится тусклою и неопределенною» 5 . Уже по завершении восстания князь отмечал, что военное вмешательство имело негативные последствия для России, осложнив отношения с Китаем: «нами спугнут, к собственному нашему неудобству при управлении неприсоединяемой Маньчжурией, злополучный пекинский двор»
[Ухтомский 1901: 17]. При этом Ухтомский снова предостерегал Россию от активного участия в китайском конфликте: «в только что начинающей разыгрываться борьбе между двумя мирами… положительно нечего выступать пока в активной роли…» [Ухтомский 1901: 23].
Идея мирного расширения несколько сближает взгляды князя Ухтомского с позицией С.Ю. Витте, который также делал ставку на мирное установление влияния за счет установления экономического присутствия в Дальневосточном регионе. Ухтомский не отрицал значимость экономического влияния и сам принимал активное участие в осуществлении этих планов, однако в своих работах акцентировал внимание на ряде особенностей России и стран Азии, делавших их близкими и похожими, прежде всего на похожести формы правления. Современники также отмечали идею «духовного родства с Востоком» как одну из ключевых в системе взглядов Ухтомского, за что и подвергали его критике. Так, П.М. Головачев, известный исследователь Сибири, характеризовал взгляды Ухтомского как «мистикополитические» [Головачев 1904: 8] и назвал его гипотезу «сентиментальной фикцией» [Головачев 1904: 15].
Особой критике в российской печати взгляды Ухтомского о мирном установлении влияния России в Азии были подвергнуты со стороны «Московских ведомостей» в период Боксерского восстания. В одной из редакторских заметок под названием «Газетное “миролюбие”» взгляды Ухтомского характеризуются как «странная эволюция русского самосознания». Сторонники таких идей были названы «китаефилами», которые уподобили «разбойников»-ихэтуаней «нашим Мининым и Пожарским и объявляли будто бы: “Россия и Китай – одно и то же”» 1 . С критикой идей Ухтомского выступил и консерватор Л.А. Тихомиров, бывший также сторонником расширения России в Азии [Репников 2014: 245-247], но считавший что Россия не должна показывать свою слабость. В работе «Китай, Россия и Европа» Тихомиров пишет: «Для людей пораженных такой “мягкотелостью” дело Европы представляется незаконным уже потому одному, что оно является в Китай в виде “насильственных действий”, в виде материального или нравственного “принуждения”» 2 . Обязанность всех культурных народов, в т.ч. и России, – принудить Китай «жить по-человечески, а не по-звериному», заставить принять христианские основы 3 .
Таким образом, самодержавие и религиозное почитание царя, несущие в себе не только политический, но и духовный смысл, представлялись идеологам «восточ-ничества» источником глубинного родства, ключевым фактором, который сближал и обеспечивал авторитет России в глазах восточных народов. Авторитет России на Востоке, в свою очередь, должен был способствовать мирному расширению ее влияния в Азии, а в дальнейшем – и расширению границ. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что само самодержавие в России является следствием давнего воздействия восточных традиций на российскую политическую систему. Оппоненты Ухтомского негативно относились к его «миролюбию» и в период восстания ихэтуаней настаивали на необходимости участия России в военном подавлении восстания наряду с другими европейскими державами как непременного проявления силы российского православного самодержавия.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-31-01298.
Список литературы Самодержавие и стратегия мирного расширения России в Азии в концепции «восточничества»
- Головачев П. 1904. Россия на Дальнем Востоке. СПб.: Тип. Исидора Гольдберга. 216 с
- Репников А.В. 2014. Консервативные модели российской государственности. М.: Политическая энциклопедия. 527 с
- Суворов В.В. 2011а. Князь Э.Э. Ухтомский о государственном устройстве России в период революции 1905-1907 гг. -Власть. № 1. С. 137-139
- Суворов В.В. 2011б. Политические убеждения Э.Э. Ухтомского. Известия Саратовского университета. Сер. История. Международные отношения. Т. 11. № 2-2. С. 31-34
- Суворов В.В. 2012. Место «восточничества» в российской общественной мысли -Власть. № 12. С. 78-80
- Ухтомский Э. Э. 1897. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890 -1891). СПб.; Лейпциг. Т. III. Ч. 5
- Ухтомский Э.Э. 1900. К событиям в Китае. Об отношении Запада и Востока к России. СПб.: Паровая скоропечатня «Восток». 87 с
- Ухтомский Э.Э. 1901. Из китайских писем. СПб.: Паровая скоропечатня «Восток». 31 с