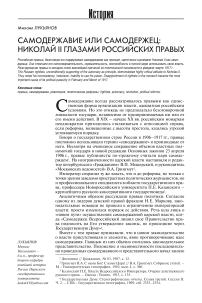Самодержавие или самодержец: Николай II глазами российских правых
Автор: Лукьянов Михаил Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2010 года.
Бесплатный доступ
Российские правые, безоговорочно поддерживая самодержавие как принцип, критически оценивали Николая II как самодержца. Они отмечали его непоследовательность, нерешительность, неспособность в полной мере использовать свою власть. Разочарование правых в монархе стало важнейшей причиной их политической пассивности в феврале-марте 1917 г.
Правые, самодержавие, революция, политические реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/170165429
IDR: 170165429
Текст научной статьи Самодержавие или самодержец: Николай II глазами российских правых
С амодержавие всегда рассматривалось правыми как единственная форма организации власти, адекватная российским условиям. Но это отнюдь не предполагало безоговорочной лояльности государю, независимо от предпринимаемых им или от его имени действий. В XIX – начале ХХ вв. российским монархам неоднократно приходилось сталкиваться с оппозицией справа, если реформы, возвещенные с высоты престола, казались угрозой устоявшемуся порядку.
Говоря о государственном строе Р-оссии в 1906–1917 гг., правые постоянно использовали термин «самодержавие» и производные от него. Несмотря на очевидное сокращение объемов властных полномочий государя в новой редакции Основных законов 23 апреля 1906 г., правые публицисты по-прежнему считали царя самоде-ржцем1. На неограниченности царской власти настаивали и редактор петербургского «Гражданина» В.П. Мещерский, и руководитель «Московских ведомостей» В.А-. Грингмут2.
Император сохранял ту же власть, что и до реформы, не только с точки зрения заведомо пристрастных политических журналистов, но и профессионального специалиста в области государственного права, профессора Новороссийского университета П.Е-. Казанского – крупнейшего русского консервативного государствоведа3.
А-налогичным образом рассуждали правые политики. Согласно одному из лидеров думской правой фракции Н.Е-. Маркову, законодательные новации не привели к ограничению императорской власти: просто изменился порядок ее действия. Р-ечь шла лишь о «новом пути» осуществления самодержавной царской власти, когда «Самодержец Всероссийский лишил свое Правительство права подносить на Е-го утверждение законы, не прошедшие через Государственную Думу»4.
ЛУКЬЯНОВ Михаил
Вместе с тем правые признавали, что в новом законодательстве о власти присутствовали и элементы, явно противоречившие идее самодержавия. Главным из них обычно считалось законодательное представительство. Положение о несовместимости последовательно проведенных самодержавного и представительного начал заняло заметное место в правом дискурсе. Многочисленные программы политических преобразований, предполагавшие слом «обновленного» строя справа, конечной целью своей имели установление монархической власти или вовсе без представительных учреждений, или наделив последних только законосовещательными функциями.
В роли главного действующего лица в устранении или радикальной реформе реально существовавших представительных учреждений правые видели самого государя. Освятивший представительство своим авторитетом, он сохранял право изменить его конструкцию, а то и вовсе его ликвидировать, считал правый публицист С.Ф. Шарапов1. А-налогичным образом рассуждали и его астраханские союзники – журналист «Р-усского знамени» Н.И. Е-ремченко (Н. Полтавец) и Л.А-. Тихомиров2.
Высказывания самого монарха не могли не питать такого рода надежды. Согласившись в разгар революции на создание представительных институтов, Николай II неоднократно давал понять, что его творения должны поведением своим оправдывать оказанное им доверие. Одобрение царем избирательного закона 3 июня 1907 г., представлявшего собой прямое нарушение Манифеста 17 октября, наглядно свидетельствовало о его нежелании считать себя скованным новыми правилами политической игры. По мнению Р-. Уортмана, царь, восхищавшийся А-лексеем Михайловичем, надеялся, что ему, подобно предку, удастся «восстановить абсолютную монархию после периода анархии и распада»3.
Однако пойти на политическую контрреформу по собственной инициативе царь не решался. Даже такие ограниченные меры, как разгон II Государственной думы и принятие нового избирательного закона, едва ли состоялись бы без мощного про- пагандистского давления правых организаций и средств массовой информации. К тому же этот результат был достигнут в условиях заметного падения политической активности левых элементов и роста влияния правых, численность которых к концу 1907 – началу 1908 г. достигла 400 тыс. чел.4 Е-ще раз повторить июньский успех 1907 г. правые не смогли. В 1913 г. они предприняли новую попытку добиться пересмотра думского законодательства и ограничения думских полномочий. Но царь, хотя и подписал указ о роспуске Думы без назначения срока созыва следующей, в действие разработанные меры так и не ввел5.
Все это разочаровывало правых. Открыто обсуждать достоинства и недостатки действующего монарха они не могли, однако материалы дневников и частной переписки, как опубликованные, так и архивные, дают вполне основательный материал для суждений на этот счет.
Монархисты подчеркивали, что монархические убеждения сами по себе не налагали обязательства во всем соглашаться с монархом. «Мы подчиняемся во всем воле Самодержавного Государя, мы признаем все, что от нее исходит… Но мы верноподданные, а не рабы, – говорил Пасхалов. – Никакое верноподданничество не обязывает нас восторгаться мероприятиями, которые мы считаем ошибочными. Как ни велико наше почтение к царскому сану, но все-таки Царь не Б-ог и может ошибать-ся...»6 Марков ставил под сомнение царские обещания: «…даже Е-го Императорское Величество есть человек и может изменить свое мнение, поэтому нам необходимо не успокаиваться на тех обещаниях, на рискованных надеждах, которые мы имеем»7.
Приведенные публичные высказывания были совершенно абстрактны; они лишь констатировали, что царю как человеку ничто человеческое не чуждо, но не задевали его лично. Зато в материалах приватного характера присутствовало множество резких, оскорбительных высказываний в адрес царя, свидетельствовавших о негативном отношении к Николаю II.
Правые отмечали невозможность положиться на государя. «…Всякий чувствует, что все, что обещано царем, непрочно, что на него надеяться нельзя», – записывала в дневник хозяйка влиятельного консервативного салона А-.В. Б-огданович1. «Государь… до такой степени шаток, что на него нельзя рассчитывать. На себе я это испытывал не раз…» – замечал часто общавшийся с царем А-.А-. Киреев2. Тихомиров укорял государя за слабоволие и чуть ли не трусость3. Е-го нерешительность и неспособность прямо объявить свою волю собеседнику отмечал А-.Д. Самарин4. На царскую неблагодарность жаловался Пасхалов5. Как «человека… постоянно хитрящего» характеризовал царя активный участник правого движения, сын знаменитого славянофила Д.А-. Хомяков6.
Недовольство личными качествами государя дополнялось недовольством его окружением. В первую очередь это относилось к Г.Е-. Р-аспутину. Видный крайне правый деятель Б-.В. Никольский считал его убийство необходимым условием реализации своих политических планов: «Положительно необходимо хирургическое устранение Р-аспутина. Другого исхода нет»7. Крайне негативно относились к царскому фавориту члены влиятельного клана Самариных, один из представителей которого из-за конфликта с ним был уволен с поста обер-прокурора8. По свидетельству В.Ф. Джунковского, «в самых консервативных кругах… находили, что было бы великим счастьем, если бы Р-аспутина не стало»9.
Ненавистники «старца» указывали, что тот компрометирует царскую семью и династию в целом, подрывает престиж монархической власти среди населения. О «чудовищной молве» об императорской семье писал Никольский10. «…Династические осложнения, о которых в провинции рассказывают, Б-ог знает, какие мерзости», – поминал в частном письме бывший член Государственной Думы А-.С. Вязигин11. В такой ситуации фокусом недовольства многих правых являлась императрица А-лександра Федоровна12.
Иногда сомнениям подвергалось даже политическое кредо царя, который казался недостаточно (или, по крайней мере, недостаточно последовательным) правым. «Вообще про царя нашего можно сказать, что он – загадка, сегодня он правый, а что завтра будет, покрыто мраком неизвестности», – писала Б-огданович13. «Е-го величество под влиянием императора Вильгельма соизволил вернуться в Р-оссию с довольно правым настроением (курсив мой. – М.Л.)», – саркастически замечал председатель Постоянного совета объединенного дворянства, член думской фракции правых (позднее – пра- вой группы Государственного совета) А-.А-. Б-обринский1.
С царем ассоциировались широко распространенные в правой среде эсхатологические ожидания. «Р-оссия медленно, но неуклонно выходит на банальный общегражданский, конституционный путь. Царство русское кончено при Николае II. А- с концом царства русского кончается и союзно церковно-государственный строй. Все это, по-видимому, уже непреложно, бесповоротно», – писал в своем дневнике 21 января 1908 г. Тихомиров2. Потерянным для себя временем считал правление Николая II Никольский: «Б-оже, боже мой, какой ужас жить в царствование Николая II и знать столько, сколько я знаю, и понимать безнадежность будущего еще лет на 12 – 15!»3
Война усугубила эти настроения, добавив в них новые моменты. Некоторых правых смущала недооценка императором националистических настроений в обществе. «Б-ыстро… пополняются ряды высшего Госуд.[арственного] Учрежд.[ения] немцами – не в пику ли это за всеобщее желание исчезновения немцев из ближайшего кольца, стоящего у трона?» – писал по поводу новых назначений в Государственный совет правый дворянский деятель А-.К. Варженевский4. Как нежелание учитывать общественное мнение интерпретировал А-.Д. Самарин факт замены царем великого князя Николая Николаевича на посту верховного главнокомандующего: «Становясь во главе армии Г.[осударь] только усилил говор о немецком засилии. Б-оюсь, что эта перемена не пройдет даром»5. Дополнительным компрометирующим фактором становилось немецкое происхождение императрицы6.
Впрочем, во время войны среди правых обнаружились и ее активные поклонники.
«Имейте в виду, – писал 14 января 1917 г. руководитель одесского Союза русских людей Н.Н. Р-одзевич, – что главный оплот Самодержавия теперь ГОСУДА-Р-ЫНЯ… Надо обращаться к Ней»7. Очевидно, что столь лестная характеристика А-лександры Федоровны свидетельствовала о недоверии к ее мужу, который автором этих строк как «главный оплот самодержавия» более не воспринимался.
Царь все больше превращался «слабое звено» русского монархизма; личностные характеристики его никоим образом не соответствовали возлагавшимся на него ожиданиям. «Теперь против царя – в смысле полного неверия в него – множество самых обычных “обывателей”, даже тех, которые в 1905 г. были монархистами, правыми...», – констатировал за месяц до свержения монархии Тихомиров8. Не переставая быть политическим символом, государь уже не воспринимался как активно действующая политическая фигура. «…Окружить ГОСУДА-Р-Я и в Царском, и в Ставке только правыми», – советовал провинциальный правый активист Н.Н. Тиханович-Савицкий9. Похожим образом рассуждал и Тихомиров, который писал: «Ну, при таком настроении весьма возможна мысль – вырвать его (Николая II. – М.Л. ) силой из рук “измены” и дать ему других “помощников”»10.
Таким образом, реальный носитель монархической власти оказался человеком неспособным ни защитить ее, ни ею распорядиться. Возникала патовая ситуация, созданная ожиданиями самих правых. Они полагали, что царь должен действовать так, как будто обладал самодержавной властью, но как он на самом деле действовать был не способен. Р-азочаровав правых, Николай II стал в их глазах «ненастоящим» царем, недостойным поддержки. Не приходится удивляться, что в критические дни февраля–марта 1917 г. правые даже не пытались его спасти.