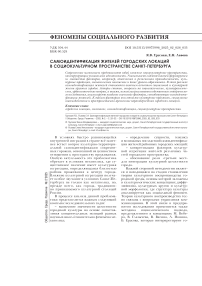Самоидентификация жителей городских локаций в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга
Автор: Грусман Я.В., Львова Е.Н.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Феномены социального развития
Статья в выпуске: 2 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Современные мегаполисы представляют собой сложные социокультурные пространства, конструирующие уникальные идентичности. Уникальность идентичностей формируется из множества факторов, например, этническая и религиозная принадлежность, культурные традиции, экономическое положение и даже уровень образования. В этих реалиях самоидентификация жителей становится важным аспектом социальной и культурной жизни крупных городов. Авторы статьи, опираясь на социологические, культурологические, урбанистические теории, а также, используя результаты собственного эмпирического исследования, анализируют наиболее значимые факторы, способствующие самоидентификации жителей. К таким факторам они относят культурные практики, социальные взаимодействия и пространственно-временные характеристики городских локаций.
Городские локации, мегаполис, самоидентификация, социокультурное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/140310684
IDR: 140310684 | УДК: 304.44 | DOI: 10.53115/19975996_2025_02_028_033
Текст научной статьи Самоидентификация жителей городских локаций в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
В условиях быстро развивающейся внутренней миграции в стране всё заметнее встает вопрос культурно-территориальной самоидентификации современных горожан, основанной на ценностном отношении к пространству проживания. Особую актуальность эта проблематика обретает в условиях мегаполиса, где существенное значение имеет культурная сегрегация, определяющаяся близостью района проживания к центру города. Влияние культурной сегрегации получает особое звучание в условиях Санкт-Петербурга не только как мегаполиса, но, прежде всего, как города, традиционно признаваемого культурной столицей России.
В процессе анализа данной проблематики представляется важным следующий комплекс исследовательских задач:
– выявление значимости целостности городской культуры на основе сопоставления концептуальных позиций разных научных школ относительно феномена мегаполиса;
– определение сущности, генезиса и возможных последствий самоидентификации жителей районных городских локаций;
– конкретизация факторов культурной сегрегации жителей различных частей городского пространства;
– обоснование роли «третьих мест» для интеграции культурной целостности города.
Важной стороной методологии является и находящаяся на стадии становления теория культурного воспроизводства городской среды, основы которой заложены в культурологических концепциях диффу-зионизма, культурных кругов и культурной морфологии, где структура культуры анализируется как социальный феномен. Теория культурного воспроизводства тесно связана с вопросами управления коммуникациями. В этой связи в предпринятом исследовании применяется также методика социологического подхода, представленного в концепциях М. Вебера, В. Глазычева, В. Вагина, Л. Ионина, Б. Ерасова, которые интерпретируют го- род как некое сообщество людей, поскольку городская среда понимается не столько как место, сколько как динамичная система человеческих (индивидуальных и групповых) связей и взаимодействий, исходя из которых возникают формы реализации культурных интересов общества.
Вопрос адекватности применения в исследовании взаимодополняемости данных подходов остается в культурологическом знании дискуссионным, однако в силу раз-ноаспектности предмета исследования представляется достаточно приемлемым. При интерпретации изучаемых данных это позволяет не ограничиваться лишь сведением их к общим закономерностям, но и учитывать в закономерностях специфику условий, а следовательно, достичь наиболее объективного результата исследования. Другими словами, исследование выстраивается на основе подходов гуманитарного и социально-научного познания, где «гуманитарное знание устанавливает культурные факты», а «социально-научное познание направлено на изучение причин и механизмов существования культурных феноменов» [9, с. 49–50].
Феномен мегаполиса как пространства взаимодействия людей друг с другом и с культурой представляет особый интерес для исследователей разных стран в области культурологии, урбанистики, социологии, социальной психологии. Концепция, предложенная Р. Парком и Э. Бёрджессом в рамках Чикагской школы социологии на основе идей Г. Зиммеля, осмысливала города через призму сообществ, живущих в нём см., например, [14; 15]. Городское сообщество как понятие имеет множество интерпретаций в современной урбанистике, среди которых особо значимыми являются характеристики территории, определяющие значимые аспекты жизни людей, в т .ч. межличностные отношения, представления о приличиях и даже ценностные установки [4].
В концепции социального пространства города, разработанной французским социологом П. Бурдье, город предстаёт как результат борьбы позиций различных агентов, отношения между которыми строятся на соотношении ресурсов, в борьбе за ресурсы [1]. Здесь очевидно противопоставление между собственно городом и разными сообществами горожан, тогда как представителями Чикагской школы подчеркивается значимость сообщества горожан как популяции и отмечается важность нахождения сообщества на определённой территории, называемой «естественным ареалом обитания» [10, с. 11].
Эти идеи нашли отражение на уровне схемы концентрических зон в организации городского пространства, предложенной в 1928 году Э. Берджессом [14], где показана невозможность отрыва социально-моральной структуры сообщества от территории проживания. В этой схеме 5 условных концентрических зон от центра к периферии, границы которых фиксируют «социальный отбор» [15]. В данном случае Э. Берждесс и Р. Парк, рассматривая расселение мигрантов первого и второго поколений в определённых концентрических зонах, противопоставляли этот процесс спланированному развитию города. Следует согласиться с авторами концепции в том, что с увеличением численности населения происходят качественные изменения социальной организации во всех частях города.
С этой позицией созвучна работа 1974 года французского философа Анри Лефевра «Производство пространства», где наибольший интерес вызывают Representational Spaces, представляющие собой пространства «жителей», «пользователей», а также отдельных художников, писателей, философов, что в совокупности покрывает собой физическое пространство, используя его объекты в качестве символов[6, с. 51–52]. Именно отсюда возникает представление о «праве на город», идею которого в дальнейшем развивал Дэвид Харви [13].
В современной российской культурологии очевиден интерес уже не столько к географическим границам, сколько к культурному устройству территории в рамках критики экономико-центристского подхода, который представляется как фактор, оказывающий ограничивающее влияние на социальный процесс и сознание людей. В публикации Н.В. Ижиковой выделяется, что «Преимущества децентрализации в культурной жизни страны в целом заключается в создании большего социального согласия» [3]. Эту линию размышлений о городском сообществе как пространстве интересов различных субкультур ярко развивает А.Н. Губанков, который подчеркивает, что «город постоянно дезинтегрирует себя самого, разрушает целостность социальной и культурной ткани и рождает феномены, склонные к дивергентному развитию». Убедительно аргументируя свою позицию, исследователь выдвигает идею о том, что противостоять этой тенденции может лишь «феномен культурного диалога», понимаемый как «интегратор городской целостности»,
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
поскольку вне поля диалога нет города, а «интенция диалога –составляет основу городской культуры» [2].
Именно в этом контексте диалогических коммуникаций формируется идентичность города, воплощаемая «в тех объектах, которые несут в себе символический потенциал», имеющая, как точно подмечено специалистом в области интегрированных коммуникаций Л.Э. Старостовой, многослойный характер в силу множества участников производства символов [11, с. 101]. Интересным примером выявления социокультурного аспекта территориальной идентичности можно назвать исследование лаборатории стратегических коммуникаций Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета. В рамках исследования было выявлено, что для значительной части жителей Екатеринбурга этот город остается городом убийства царской семьи. Парадокс итогов опроса екатеринбуржцев заключается в том, что эта идентичность – самая распространенная, претендующая на наибольшую известность и значимость – «не стала привлекательной для большинства жителей Екатеринбурга» [11, с.102].
Ещё острее подобные вопросы встают при рассмотрении городской идентичности и самоидентификации горожан в отношении культурной столицы нашей страны Санкт-Петербурга. Трудно не согласиться с позицией, согласно которой для Санкт-Петербурга особенно важно «в процессе формирования культурно-досугового пространства учитывать городскую фенологию…, ориентироваться на исторический, социальный и культурный контекст», поскольку именно это определяет успешность решения задачи «по формированию базы для коммуникации, укреплению доверия на локальном уровне и развитию социального капитала» [7, с. 104–105].
Проблема самоидентификация жителей городских локаций в социально-культурном пространстве мегаполиса связывается в исследованиях современного «нового урбанизма», получившего развитие в 2000-х годах, с проблемами горизонтальных связей и наличия таких центров локальной общественной жизни, где люди могут встретиться и пообщаться - это «Третьи» места Рэя Ольденбурга [8]. Концепция горизонтальных связей демонстрирует эффективный подход к организации социально-культурной деятельности, где «обязательным условием инновационных преобразований является преодоление культурного барьера, прежде всего традиционно патерналистских и иерархических моделей на всех уровнях» [5, с. 24]. Развивая эту мысль, можно предположить, что отсутствие содержательных культуро-ориентированных коммуникаций препятствует положительной самоидентификации горожан, а преодоление этого находится в направлении развития культурных кластеров городских районных локаций. Однако пока рост популярности идеи кластеризации культурных креативных инициатив не соответствует степени её реализации в практике региональных и муниципальных образований. В этом противоречии и конкретизируется проблема, требующая практических действий по её решению.
В качестве примера актуального состояния проблемы достаточно релевантным является Кировский район Санкт-Петербурга, где, согласно открытым данным Петростата на информационных ресурсах Администрации города, в 1636 многоквартирных домах проживает более 325 тысяч человек1. Количественно идентичная картина в ближайшем соседнем Московском районе, но его площадь 73 кв. км, тогда как площадь Кировского 47 кв. км. На территории того и другого района число государственных бюджетных культурно-досуговых центров практически одинаковое. Наибольший процент от этого числа составляют библиотеки. При этом в Кировском районе существенно преобладают учреждения для детей, тогда как в функционале учреждений Московского района заметна приоритетность ориентированности на молодежь. Кировский район граничит ещё с Адмиралтейским и Красносельским. Здесь при сравнительном подходе поле культуры выглядит существенно разнообразнее. Так, при площади чуть более 13 кв. км и населении 155 тысяч человек, учреждений культуры в Адмиралтейском районе 25, т. е. в два раза больше, чем в Кировском, тогда как в Красносельском их только 3 при площади территории 115 кв. км и населении более 430 тысяч человек. Основной поток людей из Красносельского района, где растет количество молодежи в связи с ростом строительства, при перемещении в сторону центра, неминуемо оказывается на территории своего ближайшего соседа – Кировского района. И здесь выбор культурно-творческого и художественно-зрелищного досуга со всем не велик. Основную часть составляют
4 учреждения. Одно с недавнего времени функционирует уже как театрально-концертный зал, переформатированный в Центр искусств Ленинградской области, а три других осуществляют деятельность в режиме учреждений досуга и дополнительного образования, на камерных площадках которых театральные коллективы периодически предъявляют публике продукты своего творчества. В границах Кировского района работают несколько кинотеатров и учреждений музейного типа, подростковые клубы, детская художественная школа и два детских театра, ориентированные на предоставление образовательных услуг в области ораторского и актерского мастерства. На этом фоне непропорционально велико количество ювелирных и цветочных магазинов. Улучшают общую картину несколько фитнес-центров и локаций для семейного развлечения с ориентированностью на детей младшего возраста. Театры, художественные выставки, современные концертные площадки, молодежные культурные центры и прочие интеллектуально-эстетические институции отсутствуют. Для одних людей это барьер, не позволяющий сформировать интерес и мотивацию. Для других – препятствие, требующее приложения существенных усилий, чтоб найти минимум полтора часа на дорогу, добираясь до желаемого в центральных городских локациях.
В ходе неформализованных индивидуальных интервью с жителями Кировского района, проводимых в течение 4 лет с периодичностью 2 раза в год на протяжении 2021–2024 гг., 133 человека дали оценку локации проживания, что позволило выявить ценностное отношение в понимании индивидуальности места и его значимости с точки зрения культурной наполненности. Участниками интервью посредством случайной выборки стали 61 мужчина и 72 женщины в возрасте 30–50 лет, 90% из них проживающие с семьей, 44% из них без детей и 56% с детьми.
Подавляющее большинство в вопросах о привлекательных сторонах жизни в районе, связанных с культурно-досуговыми предпочтениями, отмечали наличие торгово-развлекательных центров с кинотеатрами, благоустройство кварталов с озеленением и детскими игровыми площадками, хорошего уровня салоны красоты и магазины шаговой доступности, возможности заниматься спортом в фит-нес-центрах, бассейнах и парковых зонах. Эта часть интервью не вызвала затруднений ни разу за время проведения. Затруд- нения возникали в вопросах о культурных событиях, о значимых ярких впечатлениях, о содержательных формах времяпрепровождения, о собственном участии в общественной жизни и творческой деятельности. Среди культурных событий выделяются такие позиции:
– 33% опрошенных выделили выступления детских коллективов;
– 48% к таким событиям и впечатлениям отнесли открытие памятника В. Цою у станции метро Проспект Ветеранов, приуроченное к 30-летию со дня смерти рок-музыканта;
– 11% отметили свою культурную активность в посадке цветов возле дома;
– 14% как минимум раз в году бывают на спектаклях и выставках в центре города;
– больше 17% предпочитают хотя бы раз в году провести время в ресторане и примерно столько же – на танцполе в клубе.
Существенно больше половины, а именно 67% участников интервью, отмечали, что наличие качественной сотовой связи с широким доступом к информации удовлетворяет их основные потребности в эмоциях и впечатлениях. Интересно, что на начальном этапе проведения исследования подобных ответов было меньше, но постепенно этот процент со временем становится выше. Этому способствует и тот факт, что вопросы транспортной доступности не разрешимы без строительства новых станций метро, а проведение транспортной реформы усугубило положение по ряду автобусных маршрутов и увеличило время, затрачиваемое на поездку до метро. Об этом свидетельствуют ответы 76% интервьюированных.
В завершающей части интервью жители Ульянки – одного из муниципальных образований Кировского района – определяли семиотические смыслы характеристик места проживания, которые им предлагалось обозначить двумя прилагательными-эпитетами. Среди наиболее часто повторяющихся были такие как уютный, сонный, спокойный, скучный, комфортный, старый, зеленый, отсталый, грустный, удобный и т.п.
В дополнение к завершенному эмпирическому исследованию был проведен экспресс-опрос 15 человек, проживающих в других районах Санкт-Петербурга, чьи характеристики территории вблизи проспекта Ветеранов, можно поделить на две группы. В одной «медвежий угол», «дальний спальник», «удаленная вторичка», в другой «военные рубежи», «это питер», «там был цой» и т.п.
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
Важно отметить, что среди жителей Кировского района позитивную коннотацию в основном выбирали те, у кого в семье есть дети и/или те, у кого работа и дом находятся достаточно близко в пределах муниципального образования, в силу чего они многие месяцы не покидают его границ. Аргументировалось это в том числе тем, что в своем окружении люди не находят подходящей компании. Указанные обстоятельства отметили 35% респондентов. Другие, наоборот, указывали на необходимость дальних поездок на работу и желание в выходные дни оставаться поблизости к дому в силу усталости от переездов и поздних возвращений в рабочие дни. Таковых оказалось 55%. Среди респондентов нашлись и те, кто ратует за объединение креативных личностей и идей в рамках определенной локации муниципального образования, определяя её как точку притяжения для интересных проектов выставочной, концертной, прикладной творческой деятельности и досуга в обществе интересных людей. Такую позицию высказали 15% респондентов. Подавляющее большинство в своих комментариях указывали на ограничение круга коммуникаций коллегами по работе, членами семьи, а также соседскими чатами, ориентированными на обсуждение более или менее регулярно возникающих бытовых вопросов.
Интерпретация полученных данных позволяет выделить два наиболее значимых аспекта результатов эмпирического исследования:
Во-первых, в повседневности довольно большой части жителей периферийного района Санкт-Петербурга закреплена ру-тинизация досуга, что интервьюируемыми аргументируется частично наплывом мигрантов и опасениями позднего возвращения домой после культурных мероприятий в центре города, а частично – отсутствием возможностей для коллективного культурного действия и/или равнодушием к таковым в силу отсутствия интереса, навыка и привычки.
Во-вторых, в настроениях жителей достаточно выпукло представлена атомизация социума, препятствующая идентификации себя как жителя культурной столицы, но провоцирующая восприятие города исключительно как места постоянного или временного проживания с определенными характеристиками комфорта и цены.
Есть основания полагать, что важным условием, при котором возможно преодоление этих факторов на уровне муниципалитетов, является территориальная близость общественных пространств, «третьих» мест, их статус и известность, креативность предложения, приобщение к культурным событиям через действие посредством активного участия.
При системном подходе к рассматриваемой проблематике очевидно просматривается взаимосвязь инфраструктуры и атмосферы территории проживания с уровнем и образом жизни тех, кто населяет территорию. Яркой иллюстрацией этого тезиса является культурная среда Васильевского острова в Санкт-Петербурге, известного максимальной концентрацией арт-про-странств и живущих в этой среде представителей креативных индустрий. Разумеется, речь не идет о том, что только здесь живут истинные петербуржцы-носители аутентичной городской культуры или о том, что здесь нет маргиналов с отсутствием признаков даже элементарной бытовой культуры. В данном случае главное – доступность инфраструктуры с историко-культурным наполнением и соответствующим содержанием развитых горизонтальных связей.
Примеры продуктивных решений в развитии рассматриваемого процесса сконцентрированы в центрах крупных городов, что особенно ярко в последние годы отражено в инфраструктуре, культурных инициативах, атмосфере Перми, Тюмени, Екатеринбурга и нескольких других, чуть менее заметных в поле культурных достижений, областных центров. На волне положительного опыта продолжают предприниматься попытки создания кластеров в провинциальной части страны, что многократно сложнее в производстве и масштабировании. Зачастую реализуемые идеи либо чересчур локальны и не способны повлиять на решение каких-либо социально-культурных проблем на уровне территории, либо они преобразуются в иной формат с иными задачами. Вариантом их реализации может стать проект по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, который будет соответствовать условиям конкурса на получение гранта. Именно в малых городах и поселениях сосредоточена концентрация проектов и кластеров подобной направленности, среди которых, например, «Деревня художников» в г. Слободском Кировской области, «Поляна народных забав» в д. Ерга Вологодской области и множество других, не слишком масштабных, но являющихся заметным достижением для небольшого поселения и достойных отдельного внимания как исследователей, так и агентов маркетинга влияния.
Однако условия мегаполиса диктуют для горожан свою систему координат, свои преимущества и свои барьеры для вовлеченности в городское социально-культурное пространство и самоидентификацию себя как жителей определенного конкретного города со всеми его особенностями, которые, выражаясь образно, являют собой душу города. Рассмотрение различных аспектов самоидентификации жителей городских локаций в социально-культурном пространстве Санкт-Петербурга позволяет констатировать ряд позиций, определяющих специфику данного феномена в современной реальности:
– концентрация большей части актуальных востребованных инновационных культурных инициатив и учреждений в центральных городских районах;
– низкий уровень доступности и, как следствие, интереса к культурным институциям со стороны жителей удаленных от центра городских районов.
На небольшой территории сосредоточение значимых культурных локаций и благ в центральной части вполне доступно для всех, на огромной территории та же стратегия нарушает принцип доступности, что приводит к резкому разделению жителей разных районов и маргинализа-