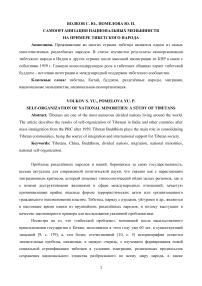Самоорганизация национальных меньшинств на примере тибетской диаспоры
Автор: Волков С.Ю., Помелова Ю.П.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 4 т.7, 2019 года.
Бесплатный доступ
Проживающие во многих странах тибетцы являются одним из самых многочисленных разделённых народов. В статье изучаются результаты самоорганизации тибетского народа в Индии и других странах после массовой иммиграции из КНР в связи с событиями 1959 г. Главную консолидирующую роль в тибетских общинах играет тибетский буддизм - источник интеграции и международной поддержки тибетского сообщества.
Буддизм, китай, миграция, национальная самоорганизация, национальные меньшинства, разделённые народы, тибетцы
Короткий адрес: https://sciup.org/147249749
IDR: 147249749 | УДК: 323.1(515)
Текст научной статьи Самоорганизация национальных меньшинств на примере тибетской диаспоры
Проблема разделённых народов и наций, борющихся за свою государственность, весьма актуальна для современной политической науки, что связано как с нарастающим миграционным кризисом, который изменяет этнополитический облик целых регионов, так и с иными деструктивными явлениями в сфере международных отношений, зачастую принимающими крайне опасные формы террористических актов или организованного гражданского неповиновения властям. Тибетцы, наряду с курдами, уйгурами и др., являются в настоящее время одним из крупнейших разделённых народов, и потому выступают в качестве закономерного примера для исследования указанной проблематики.
Несмотря на то, что «тибетской проблеме», возникшей после насильственного присоединения государства к Китаю, исполняется в этом году уже 60 лет, в существующей западной [9, с. 179], а, тем более, отечественной [10, с. 5] историографии остаются значительные пробелы, связанные, в первую очередь, с изучением формирования новой социальной стратификации тибетцев в условиях эмиграции, религиозных предпосылок сохранения национального единства разбросанного по всему миру народа, а также комплексного анализа проводимой официальным Пекином политики в отношении Тибетской автономии. Данные обстоятельства предполагают необходимость дальнейших изысканий в этих направлениях.
Национальные меньшинства КНР находятся под защитой международного права. Международные соглашения предусматривают ряд положений и разъяснений по защите культурных прав и языков национальных меньшинств. Эти соглашения также обозначают те правовые рамки, которые Китай должен соблюдать и исполнять. Так, «Международный пакт о гражданских и политических правах», ст. 27 (1966 г.) содержит следующие нормы: «в тех государствах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами этой группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком» [15, с. 225].
Конвенция о правах ребенка (ст. 30) детализирует положение «Международного пакта о гражданских и политических правах» в отношении прав детей, которые являются членами групп меньшинств: «в тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком» [12, с. 230].
Кроме того, Китай также обязан соблюдать Конвенцию ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области образования, в которой говорится: «за лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, следует признавать право вести собственную просветительную работу, включая руководство школами, и, в соответствии с политикой в области образования каждого государства, использовать или преподавать свой собственный язык» [13].
Самоорганизация национальных меньшинств возникает в процессе отстаивания ими своих неотъемлемых прав. Этот важный политический феномен является следствием разочарования людей в помощи со стороны признанных авторитетов: духовных лидеров, национальных партий и общественных объединений. Сложившиеся условия подводят их к необходимости действовать самостоятельно и коллективно. По своему конституционноправовому смыслу самоорганизация национальных меньшинств КНР является процессом их самоопределения в унитарном государстве, которое осуществляется в соответствии с Конституцией КНР и ее действующим законодательством.
Национальные меньшинства и их диаспоры можно воспринимать как сообщества, которым присущи принципы самоорганизации и самоуправления. Именно благодаря им возможно формирование организационных структур, обеспечивающих самосохранение и развитие национально-культурной самобытности. В то время как в политической сфере преобладает организация над самоорганизацией гражданского общества, в культуре, науке и социальной сфере решающую роль играет самоорганизующееся начало. Оно также преобладает в работе местного самоуправления, в гражданских организациях, стихийноспонтанного возникающих и функционирующих в периоды общественных изменений.
Ситуацию осложняет то, что некоторые национальные меньшинства КНР относятся к разделенным народам. Отечественный исследователь Ю. А. Балашов относит к разделенным народам этнические группы, территория компактного проживания которых разделена границами двух или более государств, которые «осознают себя в качестве единой общности, стремятся к объединению своего этнического пространства в рамках собственного единого государственного образования или, по крайней мере, к получению широких автономных прав в границах уже существующих государств и формирует специфические механизмы сдерживания культурной дифференциации своих отдельных частей, расположенных по разные стороны государственных границ» [8].
Уйгуры и тибетцы подходят под большинство указанных критериев, отличающих разделенные народы от диаспор или этнических меньшинств. Следовательно, стремление разделенных групп к сецессии или получению широкой автономии в рамках уже существующих государственных образований «усиливает их этническую идентичность и затрудняет формирование гражданской идентичности, способной обеспечить их лояльность к государству проживания» [7, с. 212].
Методы национальной политики Пекина по отношению к меньшинствам во многом находят обоснование в необходимости поддержки ханьцами «отсталых» народов. Но данный подход противоречит способности тибетского сообщества к самоорганизации, в том числе происходящей через протест против включения тибетской культуры в единую национальную идентичность Китая. Несомненные достижения тибетцев, находящихся в эмиграции, свидетельствуют о необъективности официальной государственной оценки потенциала национальных меньшинств КНР.
После присоединения Тибета к КНР произошла массовая эмиграция, которая сделала тибетцев одним из крупнейших разделенных народов, представители которого были приняты в странах Южной Азии, Европы и Америки, прежде всего, в Индии, Непале и Бутане. По данным департамента информации и международных связей тибетского правительства в эмиграции, на 2007 г. численность тибетских беженцев составила около 145 тыс. чел. [14, с. 358].
В свою очередь, правительство КНР устанавливает новые ограничения и с помощью бюрократических формальностей значительно затрудняет перемещения тибетцев, в том числе и монахов, как внутри КНР, так и за границу. Меры национального, провинциального и префектурного уровня, например, «Меры по управлению тибетскими буддийскими монастырями» (ст. 22) 2010 г., предписывают выполнение сложного процесса получения разрешения на поездку, которое «религиозный персонал» должен получить, прежде чем отправиться в другую провинцию, префектуру или даже уезд для обучения или преподавания [2]. Помимо ограничения поездок внутри страны, существует ограничение на поездки за границу. Правительство ограничивает как поездки за рубеж на время, так и в целях эмиграции: например, через многочисленные ограничения по получению паспортов. Поток беженцев в Непал резко сократился с более чем 2000 человек в 2007 году до примерно 100 человек в 2014 году [4]. С 2008 г. правительство также предпринимало меры для уменьшения незаконной миграции тибетцев в Индию: в основном, участников протестных выступлений. За доносы на них правительство выплачивало пособия [6, с. 145].
Многие тибетцы, включая монахов и мирян, стремятся поехать в Индию в религиозных целях, но из-за официальной обеспокоенности в связи с паломничествами за границу китайских граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, посещение религиозных мероприятий за границей и учений Далай-ламы в частности, считается подрывной политической деятельностью.
Подтверждая эффективность принятых мер по прекращению контактов между тибетцами в ТАР и в Индии, секретарь Комитета КПК в ТАР Чэнь Цюаньго (2011-2016 гг.) заявлял, что «в 2015 году ни один человек из Тибетского автономного района не посещал молитвенные собрания Далай-ламы в Индии» [1]. Подобные сложности негативно влияют на буддистские практики и поддержание монашеской традиции, но более того, ужесточение ограничений на поездки и, в частности, неспособность покинуть страну, усугубляют чувство отчаяния среди тибетцев, способствуя выбору самых крайний мер, таких как самосожжение.
По мнению Бертрана Одели, автора книги «Дхарамсала. Тибетские хроники», постоянно расширяется пропасть между тибетцами, живущими под властью китайцев и их соотечественниками, живущими за границей. И нет уверенности в том, что они смогут понять друг друга, если завтра встретятся [16, с. 207].
Согласно программному документу «Базовое образование для тибетцев в изгнании», тибетский народ ответственен перед всем мировым сообществом за сохранение и развитие уникального богатства тибетской культуры и традиций, которые имеют большое значение для всего человечества, во все времена и при любых обстоятельствах. При этом финальной целью тибетского народа является преобразование всей территории Тибета в зону ненасилия (ахимсы) и мира, преобразование тибетского общества в общество ненасилия и помощь другим народам в поиске пути ненасилия и сострадания [3].
Эффективность самоорганизации тибетцев подтверждается тем, что они смогли почти «с нуля» создать работоспособную систему организации власти, основанную на демократических принципах разделения и выборности властей. В 1992 г. Далай-лама опубликовал основные рекомендации по перспективному социально-экономическому и политическому строю государства, в которых заверил, что он не будет выполнять каких-либо обязанностей в будущем правительстве Тибета [14, с. 359]. Ещё через 10 лет Далай-лама сложил с себя обязанности политического главы тибетского правительства в изгнании. В результате выборов в 2011 г., в которых участвовала 83-тысячная тибетская диаспора по всему миру, главой правительства Тибета в эмиграции стал Лобсанг Сангей [11].
В настоящее время в Дхарамсале действуют три ветви власти «Центральной тибетской администрации: законодательная (парламент), исполнительная (правительство) и судебная (высшая судебная комиссия). Действует конституция, известная как «Хартия тибетцев в эмиграции». Из 46 членов парламента 43 избираются народом, три выдвигаются Далай-ламой [14, с. 358]. При этом в международных отношениях тибетскую диаспору продолжает, в основном, представлять именно Далай-лама XIV.
Эффективная деятельность по налаживанию общественно-политических институтов в условиях эмиграции наглядно свидетельствует о важных результатах работы управленческих структур тибетцев: им удалось возродить не только религиозную обрядность, но и сохранить культурные достижения, которые постепенно приходят в упадок в рамках Тибетского автономного округа КНР.
Тибетцы-мигранты печатают более 40 периодических изданий: среди них более 10 газет, а также содержательные журналы, в том числе «Lungta», издание международного масштаба, и «Yantsho» о борьбе за освобождение женщин [18].
С момента китайской оккупации Тибета в 1959 г. и последующего переселения тысяч тибетцев в Индию, Непал и Бутан одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед тибетском правительством в изгнании стала организация всеобщего образования и забота о детях, многие из которых потеряли своих родителей во время оккупации или перехода через Гималаи. Содействие в этом вопросе тибетцы получают от правительства Индии, создавшего Центральную администрацию тибетских школ, а также многочисленных благотворительных фондов, таких как Фонд Тибетский Дом, Массури, Фонд Снежный лев, Фонд Катманду.
Сегодня большинство тибетских школ в тибетских поселениях функционируют благодаря вышеуказанным организациям [5].
В тибетских школах в обязательном порядке изучается не менее трех языков: кроме собственно тибетского, учащийся должен на уровне пользователя владеть определенным вторым иностранным языком (варианты: хинди, китайский, английский и испанский), а также получить навыки чтения и письма на третьем языке (может быть языком региона, в котором расположена школа). «При этом в дошкольном образовании и до третьего класса школы никакой другой язык, кроме тибетского не должен преподаваться» [3].
Прошло 60 лет с начала пребывания тибетцев в иммиграции, и в чужой языковой и этнической среде они не только получили опыт выживания в мультикультурном сообществе, но также усовершенствовали методы миссионерской деятельности, в соответствии с требованиями современного общества. Тибетский буддизм - это источник интеграции и конструирования идентичности тибетского общества. В отличие от хуэй и уйгуров -приверженцев ислама, входящих в глобальную исламскую умму, тибетская религиозная традиция является автохтонной. Это, несомненно, упрочняет идентификацию с буддизмом, в том числе и на Западе, а любые ограничения, налагаемые китайскими властями на религиозную практику на индивидуальном и коллективном уровнях, воспринимаются как жесткие меры, затрагивающие саму суть Тибета.
С другой стороны, в то время как западные наблюдатели, как правило, сетуют на безвозвратную утрату традиционной тибетской культуры под тяжестью современной китайской экономической экспансии, тибетский буддизм обретает новые формы. В эпоху глобальной гиперкоммуникации и проницаемости границ, религиозные движения не только проникают через границу Китая, но и выходят за её пределы. Тибетский буддизм за последние пятьдесят лет вышел за пределы распространения среди тибетского, монгольского, бурятского и калмыцкого народов и стал мировой религией с последователями по всему миру. Центр тибетского буддизма уже не имеет однозначной привязки к Тибету.
Адаптация и популяризация буддийского учения, его распространение в странах Европы, Северной Америки, Австралии является значимым фактором пристального интереса международной общественности к судьбе Тибета. Буддийские общины в Германии, Франции, Англии, Польше, Скандинавии начали численно разрастаться в 1980-е гг., а в начале 1990-х гг. этот процесс затронул и европейскую часть России [17, с. 176]. Дхарма-центры, обучающие разным направлениям тибетского буддизма открылись во многих крупных городах по всему миру. В центрах проводятся коллективные медитации, есть возможность получить посвящение или послушать лекцию. Ключевым элементом и социальной базой распространения буддизма и привлечения внимания международного сообщества к вопросу Тибета выступают буддийские международные неправительственные организации: как тибетские, так и организации европейских и американских буддистов. Конечно же, число последователей буддизма в европейских странах не очень высоко. Более того, существуют определённые проблемы адаптации буддизма в непривычном культурном контексте. Однако с помощью единого информационного, в том числе, электронно-сетевого пространства, существует и активно реализуется возможность объединения и интеграции тибетской диаспоры как в социально-экономической, так и в гражданско-политической сфере.
Несмотря на благожелательное отношение к тибетцам со стороны мирового сообщества, сами они утверждают, что если бы появилась возможность, то 80% из них захотели бы вернуться на Родину и их нельзя назвать счастливыми – ни в Индии, ни в США, где живет почти девять тысяч тибетцев [16, с. 130]. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что тибетцы на данный момент представляют собой межгосударственное детерриторизованное этносообщество, обладающее высоким уровнем самоорганизации, способное устоять даже в период такого неизбежного кризиса, как смена их духовного лидера.