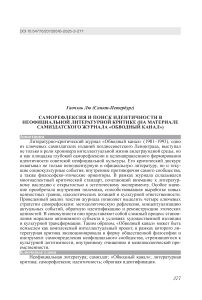Саморефлексия и поиск идентичности в неофициальной литературной критике (на материале самиздатского журнала «Обводный канал»)
Автор: Гаочэнь Лю
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Литературно-критический журнал «Обводный канал» (1981–1993), одно из ключевых самиздатских изданий позднесоветского Ленинграда, выступал не только в роли хроникера интеллектуальной жизни андеграундной среды, но и как площадка глубокой саморефлексии и целенаправленного формирования идентичности советской неофициальной культуры. Его критический дискурс охватывал не только неподцензурную и официальную литературу, но и текущие социокультурные события, внутренние противоречия самого сообщества, а также философско-этические ориентиры. В рамках журнала складывался многоаспектный критический стандарт, сочетающий внимание к литературному наследию с открытостью к эстетическому эксперименту. Особое значение приобретала внутренняя полемика, способствовавшая выработке новых ценностных границ, идеологических позиций и культурной ответственности. Проведенный анализ текстов журнала позволяет выделить четыре ключевых стратегии саморефлексии: методологическую рефлексию, концептуализацию актуальных событий, обратную идентификацию и реконструкцию этических ценностей. В совокупности они представляют собой сложный процесс становления морально автономного субъекта в условиях художественной изоляции и культурной трансформации. Таким образом, «Обводный канал» может быть осмыслен как комплексный интеллектуальный проект, в рамках которого литературная критика эволюционировала в форму общественной философии и инструмент самоопределения неофициального сообщества, стремившегося к культурной легитимности, внутреннему очищению и межпоколенческой преемственности.
Неофициальная литература, самиздат, «Обводный канал», литературная критика, саморефлексия, идентичность, обратная идентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149149397
IDR: 149149397 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-277
Текст научной статьи Саморефлексия и поиск идентичности в неофициальной литературной критике (на материале самиздатского журнала «Обводный канал»)
Во второй половине XX в. советский андеграунд играл незаменимую, хотя зачастую маргинализированную роль в литературных процессах СССР. Он выполнял сложную функцию сопротивления идеологической доктрине, формируя альтернативное пространство как для творческого поиска, так и для сохранения культурно-исторической преемственности. В условиях изоляции от издательских и циркуляционной институтов неофициальные литературные круги постоянно сталкивались с необходимостью выработки собственной системы эстетических принципов, определения границ своей компетенции, а также достойного положения в социально-культурной жизни. Итак, важным ориентиром их деятельности становилось стремление создать альтернативный культурный контекст для осмысления своего интеллектуального развития.
Число научных работ, непосредственно посвященных механизмам само-рефлексии и поиска идентичности в неофициальной литературе СССР, ограниченно. В последние годы схожие темы получали освещение в ряде исследований творчества выдающихся личностей и общих культурных процессов [Житенев 2015; Серебрякова 2021 и др.]. Особое значение здесь имеет программная статья М. Берга, в которой рассмотрены разные аспекты неофициальной литературной критики до эпохи «перестройки». Автором предложена дихотомичная схема рефлексии ленинградского андеграунда: «апелляция к авторитетным предшественникам» против «дистанцирования от скомпрометированных стратегий официальной советской культуры» [Липовецкий, Берг 2011, 513]. Напомним, что в качестве материала автор использовал неподцензурные сборники и периодические издания (преимущественно журналы «Часы» и «37»).
Среди «толстых» периодических изданий, взявших на себя функцию института неофициальной литературы, важное место занимал литературно-критический журнал «Обводный канал» (1981–1993) [Самиздат Ленинграда 2003, 25–31], выделявшийся и редкой полемической направленностью, и высокой селективностью публикуемых материалов. Ответы на вопросы «кем мы являемся» и «кем нам необходимо быть» авторы этого журнала пытались найти через литературно-критические рецензии, культурологические эссе и полемические статьи.
Таким образом, цель данной статьи – анализ того, каким образом литературно-критический дискурс «Обводного канала» воздействовал на формирование коллективной идентичности ленинградского андеграунда. В качестве ключевых аспектов рассматриваются методологическая рефлексия, выражающаяся в поиске критического языка и аналитических подходов; идеологическая самоидентификация и внутренняя полемика; этическое самоопределение, связанное с моральным катарсисом и межпоколенческой ответственности.
Методологическую основу статьи составляет сочетание герменевтики Х.-Г. Гадамера и теории Э. Эриксона (с адаптацией схемы индивидуальной идентичности к коллективной) [Гадамер 1988; Эриксон 2006]. Рассмотрению полемических случаев помогает теория Ж.-Л. Нанси о «непроизводимом сообществе»: в отличие от целенаправленности объединения, основанного на абсолютном сплочении, пространство такого сообщества предстает как особая арена, на которой разные индивиды сохраняют и независимость, и уникальность [Нанси 2011]. Его миссия, следовательно, заключается в поддержании открытости и разнообразия, что позволяет разногласиям и конфликтам существовать без насилия.
Методологический эталон
Эталоном рефлективных размышлений в журнале «Обводный канал» стала объемная рецензия К. Бутырина на творчество С. Стратановского (1981, № 1). Неслучайно литературно-критическую рубрику дебютного номера журнала открывает именно этот доскональный филологический разбор, в котором один из соредакторов журнала характеризует поэтику другого. Помимо «медленного чтения» в инструментарий критики входят биографическая и социокультурная интерпретация и структуралистский анализ сборника стихов. Благодаря разветвленной методологии рецензия определила манеру ведения литературной критики для поздних выпусков журнала.
Бутырин счел стихотворение «Ягод кровь замороженных» (1975) одной из важных вех в творческой эволюции поэта, подчеркнув в нем значимость коллективных переживаний кругов андеграунда: «1975 год стал поворотным моментом для многих, особенно для ленинградцев: это были первые выставки, первые журналы, создание семинара Горичевой-Кривулина и другие события» [Мамонтов 1981, 164]. В установлении этой связи можно усмотреть вдохновение биографического подхода Ш. Сент-Бева, между тем как перенос коллективной памяти в индивидуальную поэтику также ярко иллюстрирует принцип «слияния горизонтов» у Гадамера, предполагающий взаимодействие между разными субъектами восприятия литературного текста [Гадамер 1988, 443–444].
Примечательна чувствительность критика к новаторству поэта и его бунтарскому духу. В рецензии неоднократно подчеркивалась попытка поэта внедрить в свою поэзию элементы «парадоксальности», «прозаичности» и «пошлости» [Мамонтов 1981, 128–129]. В этом контексте критик и связывает «обмирщенный» язык Стратановского с поэтической «вульгатой» Мандельштама, Пастернака и Хлебникова, увидев их общую цель в «изгнании из поэзии элементов монашеской интеллигенции» [Мамонтов 1981, 131]. Критический подход вызывает ассоциацию с борьбой за «культурный капитал», только «декон-структивным» образом [Бурдье 2000]. Применение «обесцененных символов» можно воспринимать как подрыв «высокой» ауры, напоминающий процесс символического отторжения. На этой основе Бутырин апеллирует к предшественникам Серебряного века и затем включает «потаенные» традиции в арсенал символического капитала, тем самым легитимизируя обновление языка как новый стандарт поэтической практики.
При всей многогранности и профессионализме критики Бутырина следует признать, что продолжают функционировать традиционные модели оценивания, а новые парадигмы концептуализации возникают крайне редко. Об этом намекнул Берг, замечая отсутствие адекватного «языка описания», который значительно замедлял развитие литературной критики второй культуры [Ли-повецкий, Берг 2011, 513].
Концептуализация актуальных событий
Вторая категория саморефлекции «Обводного канала» проявляется в публикациях, посвященных событиям, феноменам и течениям, актуальным для неофициальных кругов. Эти тексты часто прибегают к дуалистической форме оценивания и проливают свет на общее интеллектуальное развитие сообщества как особого социума. В этот ряд вошли рецензии на недавно вышедшие издания, критика на резонансную мистификацию, а также обзоры литературного «статус-кво».
Среди них выделяется научная рецензия Ю. Колкера на антологию «Острова» (1982). Один из ее составителей, Колкер, в своем отклике с особой скрупулезностью характеризует неофициальную литературную действительность. Он сначала подвергает критике само наименование «второй литературы», считая его чрезмерно обобщенным и неспособным отражать подлинное многообразие субкультурной группы [Колкер 1984, 182]. Трактуя наименование «самиздата» как «пустое означающее», критик раскрывает его разрозненность и гибридность, иначе говоря, кажущееся единство андеграунда обусловлено скорее идеологическим отталкиванием, чем эстетическим консенсусом.
Показательно, что Колкер отвергает разделение русской культуры на «географические плиты» и отказывается от развенчивания официальной литературы. Напротив, он высоко ценит профессионализм ее «обученных ветеранов», а критикует неофициальную культуру за ее перенимание от Серебряного века «всего худшего» – «безответственность и энтропийную вакханалию» [Колкер 1984, 185]. Отсюда происходит название статьи – «Вольноотпущенники». Не опасаясь обвинений в «измене флагу», он открыто заявляет о себе как о «ре- акционере» и делится наблюдениями о недостатках в «Островах», а именно о низком уровне владения просодией и слабости построения архитектоники книги [Колкер 1984, 188–189]. Его «консерваторский» жест не столько приводит к пассеизму, сколько призван очистить неофициальную поэтику посредством десублимации мифа об авангардизме.
Следует напомнить, что «Острова» были задуманы литераторами, сотрудничающими с журналом «Часы» – стражей, настаивающей на принципе плюрализма. Приглашение Колкера к участию в проекте стало осмысленным шагом с целью балансировки эстетики и идеологии сборника. В этом контексте откровенная публикация его текста в журнале «Обводный канал», в свою очередь, свидетельствует о смелости рефлексии андеграунда, о его мультисти-лизме и толерантности.
Обратная идентификация
В этом ключе наиболее «яростной» стала статья В. Лапенкова «И рок, и СПИД, и Гумилев…» (1987, № 12), посвященная публикации материалов пленума СП СССР в «Литературной газете» (1987, № 19). Культуролог в работе переосмысляет важные темы культурной жизни, подвергшиеся официальной критике на заседании, такие как масскульт, нигилизм и всеядность молодежи и «литературных некрофилов» [Лапенков 1987, 106].
Разоблачив нелепость суждений идеологов-официалов, Лапенков утверждает, что нынешнее молодое поколение, каким бы «неправильным» оно ни казалось, является зеркальным отражением предшественников [Лапенков 1987, 108]. Он сводит эту параллельность к влиянию «коллективной личности» СССР. Статья Лапенкова выступает как «контратака», которая, присваивая и инвертируя риторику соцреализма, обнажает парадокс ее дискурса. Практика Лапенкова по размежеванию культурного поля показывает, как негативная идентичность андеграунда проистекает из оппозиции по отношению к культурному «Другому».
Рецензию на официально выпущенный сборник «Первая встреча: молодые поэты Ленинграда» (1980) написал В. Кривулин (1981, № 1). В социологическом экскурсе автор резко отмечает, что за пять лет ожидания окончательного решения о публикации некоторые из поэтов «исхитрились выпустить отдельные книжки», что позволили переселиться из коммуналок в квартиры [Бережнов 1981, 216]. А среди художественных проявлений конформизма он выделяет ограниченный тематический репертуар, а также отсутствие самостоятельного и свежего голоса.
Итак, у Кривулина обратная идентификация выражается уже не во внешней конфронтации, а в символическом исключении «колеблющейся» части сообщества посредством осуждения конъюнктурности. Его критика представ- лена не в сугубо диссидентской форме, а лишь как упреки за некие приспособленчества – как в текстово-художественном пространстве, так и за его пределами.
Стоит отметить еще одну критическую статью С. Стратановского, посвященную сборнику стихов Ю. Кузнецова (1982, № 3). Автор обвиняет поэта в «пустом бахвальстве» Запада, а также в нигилизме и кощунстве по отношению к исторической памяти [Голубев 1982, 213]. Отказ Кузнецова от четко выраженной индивидуальности раздражает критика, так что вопрос о его эклектичной позиции стал едва ли не центральным в оценивании поэтических достоинств.
Проведенный выше анализ демонстрирует многообразие стратегий обратной идентификации – от нападок на конформизм до отказа от навязанных нарративов и размежевания с сомнительными эстетическими ориентациями.
Тенденция к полемике
Опрометчиво полагать, что «прицел» саморефлексии неофициальной литературы был направлен исключительно вовне. Значительная часть литературной критики в «Обводном канале» посвящена внутренним спорам, однако они чаще всего принимали форму «идеальной коммуникации в рациональном духе» [Хабермас 2022]. Участники полемики придерживались правомерности и искренности, судя тексты прежде всего по эстетическим достоинствам.
Тем не менее, неофициальное сообщество порой и могло оказаться «непроизводимым», распадаясь на индивидов, охваченных подозрениями в принадлежности к чужому лагерю. Это было явление, характерное и для официальной литературной среды. Так, полемика вокруг творчества поэта А. Миронова сделала его мишенью литературной критики, демонстрируя разнообразие взглядов неофициальных деятелей.
Авторскому вечеру Миронова, состоявшемуся в 1983 г., посвящена отдельная рубрика в № 4 «Обводного канала». В своей критической статье Е. Звягин отмечает в стихотворениях этого поэта «богоядческий садизм» и «психологический надрыв», а избыток культурных ассоциаций Миронова он трактует как «болезненное настаивание на своей просвещенности» [Звягин 1983, 258–259]. Высокое мнение о себе, по мнению критика, было присуще многим неофициальным литераторам.
Действительно, определение себя как культуролога-эрудита вряд ли является спорадическим феноменом; скорее, это проявление современной страсти к культуре как «целостному образу жизни», понятому в духе Р. Уильямса. Парадигмальный сдвиг, придавший культурологемам статуса ресурсов чуть ли не для ежедневного обыгрывания, успел проникнуть на строго охраняемое советское культурное пространство, если не зародился изнутри.
Продолжая ту же критическую линию, что и Звягин, С. Стратановский подвергает Миронова более жесткой критике за кощунственный замысел, отметив тему «растления креста» [Стратановский 1983, 264]. Очевидно, что эксцентричное и подчас еретическое освоение Мироновым религиозных мотивов вызвало тревогу. Перед двойной дилеммой – между элитарностью и массовостью, спиритуализмом и профанацией – коллеги интуитивно переосмысляли эстетические ориентиры в гадамеровском «живом диалоге». Здесь как поэт, так и критики словно переживали «родовые муки» при возникновении новой идентичности.
И. Розанов пишет, что «каждая эпоха необычайно снисходительна в признании “замечательными” современных ей произведений» [Розанов 1990, 108]. В случае с «Обводным каналом» закономерность была нарушена: вместо имманентной благосклонности преобладали откровенные замечания, что свидетельствует о щепетильности в осознании положения своего круга в литературном ландшафте.
Стоит остановиться и на работе Е. Пазухина «Столпотворение» (1985, № 7), где творчество Миронова рассматривается на фоне ленинградской «религиозного ренессанса» 1970–80-х гг. Автор назвал его «единственным христианским поэтом» за уникальную интерпретацию темы «юродства» [Пазухин 1985, 143]. Элементы, ранее осуждавшиеся как богохульными, ныне переосмысляются как осознанный художественный прием.
Предлагая свое прочтение через религиозную контекстуализацию, Пазу-хин расширяет генеалогию культурных корней Миронова, интегрирует религиозное измерение в коллективную идентичность андеграунда. Однако рассуждения Пазухина не стремятся опровергнуть прежние трактовки, что показывают внутренней напряженность тогдашней системы культурных ценностей и необходимость переоценки ее иерархии.
К числу подобных полемических случаев можно отнести и дебаты о самоидентификации самиздата между Б. Лихтенфельдом и Б. Ивановым (№ 3; № 5), а также споры между С. Стратановским и Э. Шнейдерманом о творчестве Н. Рубцова и разделении на идеологические «лагеря» (№ 8; № 11). В этом аспекте неофициальной саморефлексии можно наблюдать «психосоциальный мораторий»: индивид экспериментирует с разными ролями и ценностями, пока не сформирует устойчивую идентичность [Эриксон 2006, 153–161]. Хаос, возникающий при определении отношения к происходящему, неизбежен, а лишь его преодоление может привести к формированию зрелой коллективной личности.
Реконструкция этических ценностей
Немаловажным предметом рефлексии стала мораль. В этом контексте творчество неофициальной литературы рассматривается как некий praxis этического совершенствования и создания образца для будущих поколений. Согласно концепции «бесконечной ответственности», долг того или иного поколения предполагает непрерывное нравственное требование, которое воплощается в самом акте художественного выражения [Левинас 2000, 297–302]. Оказавшись на распутье эпохи, авторы андеграунда задумывались над собственным будущим, тем не менее, их размышления зачастую не сулили благоприятных перспектив.
В эссе «Кто мы?», опубликованном в рубрике «Дневник писателя» (1983, № 4), Е. Игнатова сперва утверждает аутентичность культурной идентичности неофициальных кругов, а затем столь же решительно вскрывает его внутренние изъяны. В апроприации наследия Серебряного века эссеист усматривает «неразличение добра и зла» и «безответственную эстетизацию духовного самодовольства» [Игнатова 1983, 210–211]. Она резко критикует наличие интриг, сплетен и скандалов в андеграундном ареале, апеллируя к образцовости нынешнего поколения для последующих.
«Инвективная» линия саморефлексии нашла отражение и в статье А. Со-провского (1987, № 12), в которой «неофициалы» обвиняются в злоупотре- блении иронией, а также в «формалистическом художественном сознании», что «творчески несостоятельно, а по-человечески сомнительно» [Сопровский 1987, 94]. За всеобъемлющей утратой ценностных критериев, по мнению автора, скрывается симптом системной духовной эрозии.
Примечательно, что Сопровский в своем «памфлете» рассматривает «официальное» и «неофициальное» как единое целое: «серая серьезность официоза и ерничество нонконформизма по своей сути смыкаются между собой», а эти явления, по мнению обозревателя, вызваны «обесцененным словом» [Со-провский 1987, 97]. Эта позиция придает процессу рефлексии холистический характер, преодолев разобщенность русской интеллигенции, и также апеллирует к обязанностям индивида нести свою ответственность перед грядущими поколениями.
Выводы
Проведенный в статье анализ позволяет рассматривать литературно-критический дискурс ленинградского самиздатского журнала «Обводный канал» как важнейшее пространство саморефлексии, где формировались этические, эстетические и идейные ориентиры андеграунда 1980-х гг. На его страницах критика выходила за рамки текстового анализа, превращаясь в инструмент осмысления творчества, артикуляции идентичности и морального самоопределения.
Выявленные формы и стратегии саморефлексии демонстрируют сложную динамику становления литературного андеграунда как внутренне неоднородного, зато этически ответственного актора культурного поля позднесоветского времени. Особое внимание авторов «Обводного канала» к вопросам границ эстетико-идеологической легитимности и духовной ответственности свидетельствует о зрелости критического мышления и стремлении к выработке новой ценностной альтернативы.
Таким образом, самиздатский журнал «Обводный канал» предстает не просто как периодическое издание, но и как интеллектуальный проект, в котором литературная критика превращалась в форму общественной философии – способ утверждения идентичности в условиях одновременно художественной изоляции и ценностной неопределенности.