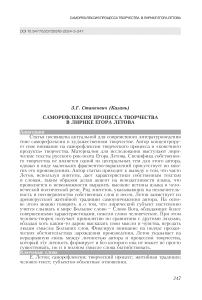Саморефлексия процесса творчества в лирике Егора Летова
Автор: Станкович З.Г.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной для современного литературоведения теме саморефлексии в художественном творчестве. Автор концентрирует свое внимание на саморефлексии творческого процесса и «конечного продукта» творчества. Материалом для исследования выступают лирические тексты русского рок-поэта Егора Летова. Специфика собственного творчества не является одной из центральных тем для этого автора, однако в виде маленьких фрагментов-вкраплений присутствует во многих его произведениях. Автор статьи приходит к выводу о том, что часто Летов, используя эпитеты, дает характеристики собственным текстам и словам, таким образом делая акцент на неподатливости языка, что проявляется в невозможности выразить высокие истины языка в человеческой поэтической речи. Ряд эпитетов, указывающих на незначительность и несовершенство собственных слов и песен, Летов заимствует из древнерусской житийной традиции самоуничижения автора. На основе этого можно говорить и о том, что лирический субъект постепенно учится слышать в мире Большое слово - Слово Бога, обладающее более совершенными характеристиками, нежели слово человеческое. При этом человек-творец получает привилегию по сравнению с другими людьми, обладая хоть каким-то даром высказать свои мысли и чувства, передать людям смыслы Больших слов. Фиксируя внимание на подчас прозаических обстоятельствах зарождения произведения, Летов указывает на неразрывную связь между личностью автора и процессом творчества, который эту личность формирует и без которого она не может не просто существовать, но и в полном смысле слова бытийствовать.
Е. летов, саморефлексия, творческий процесс, житийная традиция, человек-текст, субъектно-объектные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149146474
IDR: 149146474
Текст научной статьи Саморефлексия процесса творчества в лирике Егора Летова
Одной из ключевых характеристик современной литературы, как и всего неклассического искусства в целом, является неиссякаемая потребность в саморефлексии. Эта форма интеллектуальной и душевной практики направлена на осмысление собственной деятельности и жизни человека, творца, а значит, и культуры как возможной результирующей слагаемых такой деятельности. М.А. Хатямова, изучая явление саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ в., указывает на то, что «как особое свойство эстетического сознания литературность, преодолевая границы метода, оформляется в поэтике того или иного писателя как на уровне текста, так и на уровне художественной реальности, возникающей за ним, и представляет форму саморефлексии литературы — семиотического механизма сохранения идентичности и самоценности» [Хатямова 2008, 8].
Русская рок-поэзия конца ХХ — начала XXI в. демонстрирует множество вариантов саморефлексии. Одним из наиболее интересных авторов, периодически обнаруживающих своеобразные пути и формы саморефлексии, безусловно, является Егор Летов.
В работе «Комментарий к мифу: Егор Летов о своих текстах» А. Кор-чинский высказывает следующий тезис: «Летов принадлежит к числу авторов, склонных к интенсивной мировоззренческой и творческой рефлексии. <...> На протяжении всей творческой жизни он подвергал ревизии уже сделанное и стремился сформулировать текущие эстетические принципы» [Корчинский 2018, 52]. В той же работе исследователь называет такое явление тягой рок-поэта к саморефлексии. В данной работе рассмотрим вопросы о том, как оценивал рок-поэт свое творчество, обстоятельства создания текстов и творческий процесс в целом.
Тему собственного творчества нельзя назвать одной из магистральных в лирике Егора Летова, но в разных формах она нередко заявляет о себе с самых ранних произведений, созданных еще в 1983—1984 гг., вплоть до 2006 г.
Нередко оценка собственного творчества производится Летовым через подбор эпитетов к определенным словам. Чаще всего рок-поэт снабжает эпитетами собственно слова (или словеса), а также песни. В стихотворении «Новый футуризм» 1985 г. читаем: «И вот треплюсь тороплюсь // И бездарно боюсь расплескать пулно блюдище // Блинных словес одноразовых — // Много уже расфонтанил спотыками» (выделено мной — З.С. ) [Летов 2018, 108—109]. Слова здесь во многом приравниваются к еде или напиткам, отсюда проистекает их принципиальная недолговечность, одноразовость, а следовательно, Летов не воспринимает их как нечто принципиально нетленное, могущее стать основой поэтического памятника творцу. Годом позже в песне «Среди зараженного логикой мира» мы находим развитие этой мысли: «Я научился писать на воде // Я научился орать в пустоту» [Летов 2018, 194]. Ощущение недолговечности творчества дополняется настроением бессмысленности: то, что пишется на воде, не сбудется; если кричать в пустоту, никто не услышит. Лирический субъект овладел абсурдным умением, значит, для этого пришлось приложить определенные усилия. Почему же нужно было сознательно делать свои слова такими неустойчивыми? В песне «Как везли бревно на семи лошадях.» 1992 г. констатируется: «Все слова — п**деж» [Летов 2018, 315], что обесценивает не только слова автора, но и слово вообще. В интервью «200 лет одиночества», взятом Серегой Домой в декабре 1990 г., Летов высказывает похожую мысль: «Надо сказать, что вообще все слова — говно. Скуден язык, Нищ, Жалок, и убог. <.> Слова недостойны НАСТОЯЩЕГО языка. Через них можно задать как бы вектор, образ, указочку. Но ведь все это. не самодостаточно. Все это — костыли. Дырочки. Веревочки. Я всегда испытывал крайнее неудобство, когда пытался посредством речи выразить что-либо <.>» [Домой 1990].
Создается впечатление, что поэт ведет речь , а слово « настоящего языка » ему не дается, но откуда поэт знает о своем несовершенстве? Это знание — результат рискованного действия — вглядывания в бездну совершенства, в бездну языка. Это противоречие между языком и речью, знакомое Л. Витгенштейну, М. Хайдеггеру, В. Рудневу, для Летова становится сложнейшей проблемой. Большое слово, которое было у Бога или которое было Бог, надо перевести в малое слово — в живую человеческую речь. Эту драму поэзии и схватывает Летов, говоря об ущербности, слабости своего слова.
Образ ущербного слова поддерживается Летовым в коротком стихотворении 1993 г.: «Слово мое захудалое // Родилось ты тут ни с того ни с сего // Словно пятая нога у хромой собачонки // В принципе-то понятно отчего // Однако все ж таки досадно // Не мне так другим, // Прихрамывающим» [Летов 2018, 345]. Здесь снова наблюдается соседство мотивов несовершенства слова и хромоты. Пятая нога в данном случае может служить своеобразным костылем. Она не заменит ту ногу, на которую хромает собачонка, но все-таки она лучше, чем ничего, иначе не было бы досадно другим прихрамывающим. Получается, что язык поэта и вообще человека беден, но все-таки лучше обладать хотя бы захудалым словом, с тенью смысла, нежели не обладать никаким.
Со временем для Летова слова приобретают дополнительное значение опасной стихии: «Вот и я не знаю что делать // Когда погружаюсь, ныряю, плыву, утопаю // в священных словесных помоях» [Летов 2018, 387] («Пропеллер», 1994 г.). Здесь Летов соединяет в одном словесном образе высокое и низкое, продолжая традицию пересоздания словесного мусора, «помоев» — в поэзию.
Чтобы проблема превратилась в драму, как у Летова, надо было почувствовать идеальность, «священность помоев», когда за самым захудалым словом могут открыться большие смыслы. Так когда-то Хайдеггер почувствовал значимость «болтовни», «толков» для... философии [Хайдеггер 1997]. Поражает превращение потока слов в разгул стихии, с которой, словно с потопом, невозможно совладать.
Слова не существуют изолированно, а собираются в произведения, песни или стихотворения. Своим песням автор дает определения несколько раз. Впервые — в песне «Западло» 1987 г.: «И все песни мои одинаковые // И похожи на гражданскую оборону» [Летов 2018, 222]. Примечательно, что словосочетание «гражданская оборона» не подается здесь как название группы а, скорее, предстает в своем прямом значении: «Гражданская оборона — это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей <.> от опасностей, возникающих при военных конфликтах <.>, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» [Федеральный закон.]. На занятиях по гражданской обороне рассказывают об апокалиптических ситуациях, что рождает ощущение безысходности или подавленности. Возможно, именно эти настроения имел в виду автор. Принципиально и то, что он называет песни одинаковыми. Гражданская оборона — это оборона гражданами самих себя, и люди в этом смысле вполне одинаковы.
Семью годами позже Летов создает два стихотворения, близкие друг другу по духу: «Глаза болят от красот грешных.» и «Глаза воспалились разбухли набрякли.». В первом из них лирический субъект констатирует свое убожество и, вместе с тем, величие в нежелании становиться кем-то другим: «Глаза болят от красот грешных // Душа сатанеет от песен несбыточных <.> Алкоголь во мне плещется. Травы щекочут // Мои бесполезные скудные мощи // И кусты рукоплещут // Когда ковыляю я мимо // Такой неказистый тщедушный позорный // Такой никудышный // Такой настоящий» [Летов 2018, 382]. Здесь мы снова видим колоссальный разброс самооценок, достигающий максимальной остроты. И все же лирическому субъекту удается побороться за свое место в жизни: он никудышный и позорный, но зато настоящий, неспособный к самовосхвалению и лицемерию. Во втором тексте Летов размышляет о тщете своего творчества: «И песни мои окаянные // Непотребные // Безоглядные // Просочились меж пальцев печальных рассеянных // Моего героически-безрассудного народа // Пролились на бездонную землю // И канули в ней» [Летов 2018, 389]. Песни названы Летовым несбыточными, окаянными, непотребными, безоглядными. Эти определения всегда стоят после определяемого слова, замыкая стих или вообще являясь отдельным коротким стихом. Особенно интересен в этом ряду архаизм «окаянные», нередко встречающийся в произведениях древнерусской литературы, например, в «Житии протопопа Аввакума». Древнерусская житийная традиция строится на самоуничижении пишущего. Е.А. Епифанова пишет: «Древнерусские книжники верили в божественность творческого вдохновения, в высокое назначение искусства. Они считали, что, взявшись за перо, следовало уповать на благодатную помощь свыше. Унижая собственные способности, автор показывал, сколь велика роль Бога в успешном завершении дела <.>» [Епифанова 2014, 42].
Вопрос об отношении Летова к Богу — отдельная тема, обратим внимание только на один момент. Д.О. Ступников, размышляя о понятиях «Навсегда / Ненавсегда», говорит, что «значение слова «навсегда» двоится, указывая на тщетность человеческих усилий и всемогущество Бога» [Ступников 2017, 163].
Усилия лирического субъекта нельзя назвать полностью бесполезными, если учесть, что он все же владеет хоть каким-то даром слова, который отсутствует у других людей. Обратимся к стихотворению «Все смешалось, все сместилось.» 1996 г. Летов пишет: «Здравствуй русское поле // Я — твой тонкий колосок // В грязь лицом ударенный // Жестоко одаренный» [Летов 2018, 444]. Лирический субъект наделен способностью к творчеству, но дар этот жестокий. Жестокость проявляется или по отношению к самому субъекту, или к окружающим людям, а возможно, и то и другое. Знаменитый пушкинский Пророк в одноименном стихотворении проходит через мучительное преображение, чтобы получить от посланника Бога свой дар. В случае с «я» в произведении Летова может происходить нечто подобное, хотя напрямую читателям не сообщается, кто именно дал герою необычные возможности. Однако мы точно знаем, что перед этим его ударили в грязь лицом. Обычно человек это делает сам, но тут в некоторой степени ломаются привычные субъектно-объектные отношения. Пройдя через мучительную «инициацию», персонаж обретает свою исключительность.
Одно из своих последних стихотворений «Кто в доме хозяин» 2006 г. Летов начинает так: «Бог говорит со мной посредством меня // Бог говорит со мной посредством собаки // лающей на меня // Бог говорит со мной посредством языка <...>» [Летов 2018, 524]. Лирический субъект будто все больше и больше учится слышать во всем слова Бога и в итоге приходит к пониманию роли самого себя в мире: «Мне кажется снова я тот кто Хозяин // Я снова поэт» [Летов 2018, 524].
Как происходит восприятие и частичная ретрансляция слова Бога? Летов неоднократно обращается к многоплановой теме творческого процесса. В песне «Малиновая скала» / «Рядом лица вдоль сторон.»
1983 г. автор фиксирует компилятивный характер своей деятельности: «Собираю по крупице // И кладу себе в карман // Впечатленья и картинки, // Чтоб не канули в туман // Позабытых воплощений // И поспешных заключений» [Летов 2018, 4]. Лирический субъект наделяет элементы, из которых впоследствии будут складываться произведения, характеристикой вещественности: их можно положить в карман, будто какие-нибудь мелкие предметы. Это помогает творцу не забыть о собранном материале, ведь на вещи, лежащие в кармане, мы периодически натыкаемся руками. Так лирический субъект спасает впечатления и картинки от забвения или неверного истолкования.
Годом позже, в стихотворении «Ванна наполняется водой...» автор создает уже более конкретную картину обстоятельств, в которых рождается творчество: «Ванна наполняется водой // Праздничный пар // Суетный я // Суетное все // Мама что-то выпекает на кухне // Что-то бушует по телевизору // Что-то вполголоса у меня // Все двери распахнуты // Вскочил побежал // Бросил ручку забыл // Прибежал поискал.» [Летов 2018, 28]. Поэтическому вдохновению находится место в бытовом, прозаическом окружении, рядом с ванной, кухней, телевизором, что никак не мешает лирическому субъекту творить. Более того, герой способен, словно в ванну, глубоко погружаться в мир своего воображения, теряя связь с реальностью: «Не реагируй не помни // Вода через край» [Летов 2018, 28]. Цель творчества здесь не фиксируется, зато передается ощущение процесса. Вновь вопрос о цели поднимается уже в песне «Кто сдохнет первым», написанной в 1987 г. Летов констатирует: «Придуманным миром удобней управлять». Герои пребывают в «бесконечной помойной яме» и чувствуют «Страх выходить за дверь // Страх выражать свой страх» [Летов 2018, 238]. Единственная возможность увидеть другой мир — это его придумать и стать там главным, меняя все по собственному желанию и ничего не опасаясь.
Довольно долго Летов не возвращался к вопросам творческого процесса, но в 2006 г. он пишет песню «Калейдоскоп», в которой дается сразу несколько определений тех эмоций, которые овладевают поэтом. Летов фиксирует состояние творца как «образный захлеб», «мысленный потоп» [Летов 2018, 520], при этом его сознание названо мглистым, он видит реальность лишь очень смутно. Вертящийся, смеркающийся, плавящийся и беснующийся калейдоскоп становится метафорой хаотичного, причудливого сочетания различных элементов, ранее собранных по крупицам. Рефреном проходят слова «Кипучее движение игристого ума. остановка» [Летов 2018, 520]. Процесс творчества активен, силен. Он опьяняет, как игристое вино, но иногда в этом процессе происходит перерыв, остановка.
Вплотную к вопросу о характере творческого процесса примыкает другой — о самоопределении лирического субъекта. Летов не обращается к этой проблеме в ранних текстах. Впервые она возникает в стихотворении «Я родом из этих невежливых строчек.», написанном в 1994 г., где лирический субъект называет несколько источников своего происхождения. Некоторые из них связаны с жизнью природы: «Я родом из утра», «Я родом из леса зеленого теплого», «я родом из радуги» [Летов 2018, 374]. Другие можно отнести к лексико-семантической группе «война»: ярость, воинство, Победа. На первом месте оказывается все же образ из мира литературы. Однако и «воинство Правды единой» извергает наряду с протуберанцами «поэмы и подвиги». В привычном понимании автор создает строчки произведения, а не они его. Летов же нарушает эту логику: его произведения как бы рождаются до него, определяя в дальнейшем все его существование. Возможно, именно так слышится голос Большого слова. Возможно, автор создает автобиографический миф на основе образов, которые он использует в творчестве (или которые используют его?), подгоняя себя под облик лирического героя. В любом случае, Летов не пытается идеализировать свой образ, указывая на невежливость написанного.
Интересно решается вопрос о самоопределении автора в маленьком стихотворении 1996 г. «Собака измучилась, глядя...»: «Собака измучилась, глядя // Взирая, смотря // На ее месте я давно бы подох, зачеркнулся // Ибо снег тает, мягко говоря // И весна наступает, извиняюсь за выражение» [Летов 2018, 448]. Слово «зачеркнулся» грамматически неверно, зачеркнуть можно только объект, но не субъекта. Однако здесь автор производит это действие над собой. Зачеркнуть можно текст, строку, слово. Следовательно, у Летова возникает очень необычный лирический субъект — «человек-текст». Он не мыслит себя вне творчества, вот почему, в частности, подбирает целый ряд синонимов к слову «глядя». Даже свою возможную смерть он описывает именно в терминах бытования текста. По словам Д.М. Сегала, «самосознание литературы — это процесс не «вну-трилитературный», а «внутритекстовой», он относится не к литературному процессу (быту, факту), а к миру , литературой творимому, становясь, таким образом, парадигмой миротворчества в рамках текста» [Сегал 2006, 13].
Как мы можем видеть, в произведениях Летова саморефлексия творческого процесса представляется как достаточно сложное явление. Во-первых, автор выходит к проблеме несовершенства того языка, который находится у нас в услужении, для выражения всего спектра смыслов. Во-вторых, Летов фиксирует обстоятельства протекания творческого процесса. Он может разворачиваться в самых прозаических и бытовых условиях, на краешке кухонного стола (М. Булгаков). Поэт волен составлять образ из всего того, что дает ему Бог, но также имеет полное право подключать и свою фантазию. Автор при создании произведения является не только «продуктом» языка, но и полноправным субъектом. В-третьих, лирический субъект неотделим от процесса творчества, который формирует его личность, а потому мы можем говорить о нем, как о человеке-тексте. Таким образом, Егор Летов, соединяя в своем творчестве-жизни различные, иногда противоположные идеи авторства разных исторических эпох (от Средневековья до современности), создает свой неповторимый художественный мир, аналогов которому нет.
Список литературы Саморефлексия процесса творчества в лирике Егора Летова
- Домой С. 200 лет одиночества. Интервью с Егором Летовым // Гражданская оборона. Официальный сайт группы. URL: https://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056981372.html (дата обращения: 27.01.2024).
- Епифанова Е.А. Структура житийных предисловий в древнерусской агиографической традиции (XII в. - до рубежа XIV-XV вв.) // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 16(345): Филология. Искусство ведение. Вып. 91. С. 41-45.
- Корчинский А. Комментарий к мифу: Егор Летов о своих текстах // Летовский семинар: Феномен Егора Летова в научном освещении. М.: Bull Terrier Records, 2018. С. 52-65.
- Летов Е. Стихи. М.: Выргород, 2018. 548 с.
- Сегал Д.М. Литература как вторичная моделирующая система // Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 1149.
- Ступников Д.О. От звездопада до прекрасного далека (пять заветных образов-символов сибирского экзистенциального панка) // Русская рок-поэзия: текст и контекст: сборник научных трудов. Вып. 17. Екатеринбург; Тверь: Уральский государственный университет, 2017. С. 151-172. EDN: YNEECR
- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/12007 (дата обращения: 27.01.2024).
- Хайдеггер М. Толки // Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. C. 167-170.
- Хатямова М.А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ века: автореф. дис. д. филол. н.: 10.01.01. Томск, 2008. 42 с. EDN: SUQHUN