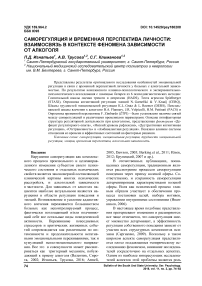Саморегуляция и временная перспектива личности: взаимосвязь в контексте феномена зависимости от алкоголя
Автор: Игнатьев Павел Дмитриевич, Трусова Анна Владимировна, Климанова Светлана Георгиевна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Медицинская (клиническая) психология
Статья в выпуске: 2 т.11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты оригинального исследования особенностей эмоциональной регуляции в связи с временной перспективой личности у больных с алкогольной зависимостью. По результатам комплексного клинико-психологического и экспериментально-психологического исследования с помощью батареи из 6 психодиагностических методик: Госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии (HADS), Теста агрессии Spielberger (STAXI), Опросника когнитивной регуляции эмоций N. Garnefski & V. Kraaij (CERQ), Шкалы трудностей эмоциональной регуляции K.L. Gratz & L. Roemer (DERS), Пенсильванской шкалы влечения к алкоголю B.A. Flannery, J.R. Volpicelli, H.M. Pettinati (PACS) и Опросника временной перспективы F. Zimbardo (ZTPI) - было установлено наличие связей между саморегуляцией и различными временными параметрами. Описана пятифакторная структура регуляторной деятельности при алкоголизме, представленная факторами «Дефицит регуляторного опыта», «Низкий уровень рефлексии», «Деструктивная когнитивная регуляция», «Отстраненность» и «Амбивалентная регуляция». Показано влияние системы отношения ко времени и аффективных состояний на факторные решения.
Саморегуляция, эмоциональная регуляция, трудности эмоциональной регуляции, эмоции, временная перспектива, алкогольная зависимость
Короткий адрес: https://sciup.org/147233041
IDR: 147233041 | УДК: 159.964.2 | DOI: 10.14529/psy180208
Текст научной статьи Саморегуляция и временная перспектива личности: взаимосвязь в контексте феномена зависимости от алкоголя
Нарушение саморегуляции как комплексного процесса произвольного и целенаправленного изменения субъектом своего психического состояния и отдельных психических свойств является закономерной составляющей клинической картины многих психических расстройств, и алкогольной зависимости в частности. Для зависимых от алкоголя пациентов наиболее актуальными являются нарушения в области регуляции поведения и эмоций. Возникновение и усиление аддиктив-ного влечения переживается большинством больных как неконтролируемый процесс, фактически поглощающий и/или подчиняющий себе все остальные виды поведенческой активности. Переживание повседневных стрессоров и критических жизненных событий сопровождается как различными по интенсивности и продолжительности негативными эмоциональными переживаниями, так и кумуляцией психоэмоционального напряжения. Все это в совокупности может рассматриваться как триггерный механизм, побуждающий к приему алкоголя (Валентик, Сирота, 2002; Игнатьев, Трусова, 2016; Armeli,
2005, Dawson, 2005; Berking et al., 2011; Илюк, 2012; Крупицкий, 2007 и др.).
В отечественных публикациях, посвященных саморегуляции, традиционным является рассмотрение процессов саморегуляции поведения через призму волевой сферы. Соответственно, и сохранность саморегуляции детерминирована характеристиками волевой сферы. Воля как психический процесс главным образом участвует в обеспечении процесса постановки целей, выбора мотивов, управлении внутренними состояниями (Иванников, 2006).
В настоящее время подобные представления претерпевают изменения и расширяются: все чаще отмечается, что саморегуляция имеет множество детерминант, а эффективность регуляции собственного поведения зависит от участия всех структурных компонентов психики (Сергиенко, 2009). Поскольку в таком широком аспекте саморегуляция представляется плохо поддающимся эмпирическому исследованию феноменом, внимание исследователей сосредоточено на отдельных аспектах. Одним из наиболее интересующих исследователей аспектов этой проблемы является роль эмоций и регуляция субъектом собственного эмоционального состояния в контексте организации своей повседневной поведенческой активности.
Роль эмоций в регуляции поведения всегда рассматривалась в единстве общего процесса саморегуляции поведения и лишь относительно недавно была выделена в качестве самостоятельного понятия, представленного в многочисленных публикациях зарубежных авторов, например, J. Gross, K.L. Gratz, L. Roemer, N. Gar-nefski, V. Kraaij, P. Spinhoven и др.
Так, J. Gross (2007) и его коллеги определяют эмоциональную регуляцию как целенаправленный процесс функционирования и управления собственной активностью, влияющий на интенсивность, продолжительность и тип переживания. Модель эмоциональной регуляции поведения, предложенная J. Gross, учитывает, в том числе влияние ситуативных и темпоральных характеристик – каждая из стратегий эмоциональной регуляции включает в себя набор различных адаптивных и дезадаптивных способов реагирования. При этом характер адаптивности зависит от частоты и уместности эксплуатации таких способов, т. е. одновременно учитывается интенсивность и частота использования, а также ситуационный контекст применения стратегий регуляции (Gross, 1993, 2007).
Подход K.L. Gratz, L. Roemer (2004), сосредоточенный на рассмотрении процесса регуляции эмоций и его нарушений, также учитывает темпоральный аспект: регуляция эмоций представляет собой модуляцию собственного эмоционального опыта и ответной реакции в виде преобразования интенсивности и продолжительности переживания эмоций. Последнее в целом направлено на торможение импульсивного поведения (Gratz, Roemer, 2004).
Обращает на себя внимание позиция N. Garnefski, V. Kraaij, которые рассматривают отдельный аспект эмоциональной регуляции, а именно регуляцию эмоций посредством когнитивных стратегий. Когнитивные стратегии как один из способов регуляции представляют собой совокупность когниций – представлений и мысленных усилий, направленных на управление и сдерживание своих эмоций (Garnefski, Kraaij, 2001; Писарева, 2011). При этом можно выделить темпоральные аспекты, так как мысленные усилия разворачиваются во времени, имеют определенную продолжительность и ориентированы на определенный временной модус (настоящее, прошлое или будущее).
Современные исследования субъективного психологического времени указывают на то, что некоторые особенности временной перспективы личности связаны с бóльшей частотой приема психоактивных веществ (ПАВ) и являются в силу этого факторами риска формирования зависимости. В частности, к таким факторам относится ориентация на гедонистическое настоящее и/или негативное прошлое (Трусова с соавт, 2013; Трусова, Климанова, 2015; 2016; Keough et al., 1999; Henson et al., 2006; Ortuсo et al., 2010; Fieulaine, Martinez, 2011).
Отмечается также мнение о том, что взаимосвязь между временной перспективой и злоупотреблением ПАВ не имеет линейного характера. В частности, отмечается, что временная перспектива может быть проксимальным предиктором поведенческих намерений (behavioral intentions) и опосредуется установками, способностью к поведенческому контролю, ценностями, копинг-механизмами и т.д. (Wills et al., 2001; Adams, Nettle, 2009; Fieulaine, Martinez, 2011).
Таким образом, можно утверждать, что существует взаимосвязь между саморегуляцией поведения и временной перспективой личности, и изучение такой взаимосвязи актуально в контексте решения задач превенции и терапии алкогольной зависимости.
Целью описываемого в настоящей публикации исследования являлось изучение взаимосвязи между временной перспективой личности и параметрами, отражающими саморегуляцию поведения у пациентов с зависимостью от алкоголя с построением основанной на этих данных эмпирической модели.
Дизайн и методы исследования
Исследование проводилось на базе отделения лечения больных алкоголизмом Научного медицинского исследовательского центра психоневрологии (НМИЦ ПН) им. В.М. Бехтерева. Отбор испытуемых осуществлялся на основе разработанных критериев включения в выборку: возраст в диапазоне от 18 до 70 лет; установленный лечащим врачом психиатром-наркологом диагноз «Синдром зависимости от алкоголя» (код F10.25-26 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра, МКБ-10); свободное владение русским языком; наличие стационарного или мобиль- ного телефона. Критериями исключения являлись: проявления алкогольного абстинентного синдрома; наличие выраженных когнитивных дисфункций, коморбидных соматических и психических расстройств; прием интенсивной фармакологической терапии, изменяющий течение и характер психических процессов и состояний.
Для исследования особенностей эмоциональной сферы использовались:
-
1) Госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии (HADS) (Андрющенко, 2003);
-
2) Тест агрессии C.D. Spielberger (STAXI) в адаптации Г. Кассинове, Д. Суходольского, К. Экхарда, С. Цицарева.
Способы и стратегии эмоциональной регуляции поведения исследовались с помощью:
-
1) Опросника когнитивной регуляции эмоций N. Garnefski, V. Kraaij (CERQ) в адаптации О.Л. Писаревой, А. Гриценко (2011);
-
2) Шкалы трудностей эмоциональной регуляции K.L. Gratz, L. Roemer (DERS) в переводе Д.В. Московченко.
Выраженность влечения к алкоголю оценивалась с помощью Пенсильванской шкалы влечения к алкоголю B.A. Flannery, J.R. Volpicelli, H.M. Pettinati (PACS) в адаптации Е.М. Крупицкого с соавт. (2007).
Для оценки временной перспективы личности был использован опросник временной перспективы F. Zimbardo (ZTPI) в русскоязычной адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной (Сырцова, 2008).
Кроме этого, учитывались некоторые клинические показатели алкогольной зависимости, в частности: форма употребления и стаж употребления алкоголя; количество госпитализаций по поводу алкогольной зависимости; ретроспективная оценка средней продолжительности ремиссии.
Статистическая обработка полученных результатов включала в себя проверку выборки на нормальность распределения по λ-критерию Колмогорова – Смирнова, расчет средних значений и стандартного отклонения, а также факторный и регрессионный анализ.
Результаты исследования
В исследовании приняли участие 56 пациентов, находившихся на заключительном этапе стационарного лечения по поводу алкогольной зависимости, в том числе 47 мужчин и 9 женщин (83,9 и 16,1 % объема выборки соответственно), средний возраст – 40,2 ± 8,5 лет (M±SD). У 28 человек (50 %) отмечалась постоянная форма употребления, у 19 человек (33,9 %) – периодическая, у 9 человек (16,1 %) – перемежающая. Средний возраст начала формирования алкогольного абстинентного синдрома – 29,8 ± 7,2 лет. Большинство пациентов – 34 больных (60,7 %) были госпитализированы по поводу алкогольной зависимости впервые, остальные 22 пациента – госпитализированы повторно. Амбулаторное лечение в анамнезе проходили 11 пациентов (19,6 %), стационарное – 12 (21,4 %), имели опыт и амбулаторного, и стационарного лечения – 7 (12,5 %). Почти половина обследованных пациентов (26 человек или 46,4 % численности выборки) не обращались ранее в медицинские учреждения. Средняя длительность заболевания (M±SD) составила 10,5 ± 7,3 лет, средняя продолжительность ремиссии обследованных пациентов – 11,1 ± 16,9 месяца, средний уровень показателя выраженности влечения к алкоголю – 10 ± 7,5.
Характеристики эмоциональной сферы. По данным обследования по госпитальной шкале тревоги и депрессии, у испытуемых обнаружен средний показатель по шкале «тревога», свидетельствующий о субклиническом уровне ее выраженности, При этом показатели по шкале «депрессия» соответствуют норме (т. е. выраженная депрессивная симптоматика отсутствует). В оценке паттернов агрессии наиболее выраженными оказались следующие показатели: контроль агрессии; раздражительность; эксплозивность; аутоагрессия; агрессия, направленная вовне (табл. 1).
Таблица 1
Выраженность показателей тревоги, депрессии и агрессии у обследованных пациентов с алкогольной зависимостью
|
Показатели психодиагностических методик |
Значения статистик M±SD |
|
Тревога (HADS) |
8,62 ± 4,15 |
|
Депрессия (HADS) |
6,07 ± 4,11 |
|
Агрессия как актуальное состояние (STAXI) |
15,78 ± 6,24 |
|
Агрессия как черта характера (STAXI) |
20,92 ± 7,42 |
|
Гнев-темперамент (STAXI) |
7,94 ± 3,39 |
|
Гнев-реакция (STAXI) |
9,12 ± 3,28 |
|
Агрессия внешняя (STAXI) |
16,01 ± 5,24 |
|
Агрессия внутренняя (STAXI) |
17,37 ± 5,81 |
|
Контроль агрессии (STAXI) |
21,98 ± 6,06 |
Характеристики эмоциональной регуляции . Для снижения размерности массива экс периментальных данных был проведен фак-
Таблица 2
Матрица факторных нагрузок показателей эмоциональной регуляции у обследованных пациентов с алкогольной зависимостью
|
Исходные переменные |
Факторы |
||||
|
F 1 |
F 2 |
F 3 |
F 4 |
F 5 |
|
|
Непринятие эмоциональных реакций (DERS) |
0,820 |
– |
– |
– |
– |
|
Ограниченность спектра стратегий регуляции эмоций (DERS) |
0,774 |
– |
– |
– |
– |
|
Трудности поддержания целенаправленного поведения (DERS) |
0,594 |
– |
– |
– |
– |
|
Трудности сдерживания импульсивных реакций (DERS) |
0,586 |
– |
– |
– |
– |
|
Отсутствие осознания эмоциональный реакций (DERS) |
– |
0,823 |
– |
– |
– |
|
Отсутствие ясности понимания эмоциональных реакций (DERS) |
– |
0,780 |
– |
– |
– |
|
Перефокусировка и планирование (CERQ) |
– |
–0,620 |
– |
– |
– |
|
Обвинение (CERQ) |
– |
– |
0,890 |
– |
– |
|
Катастрофизация (CERQ) |
– |
– |
0,825 |
– |
– |
|
Положительная перефокусировка (CERQ) |
– |
– |
– |
0,729 |
– |
|
Позитивная переоценка (CERQ) |
– |
– |
– |
0,706 |
– |
|
Помещение в перспективу (CERQ) |
– |
– |
– |
0,669 |
– |
|
Принятие (CERQ) |
– |
– |
– |
– |
0,779 |
|
Самообвинение (CERQ) |
– |
– |
– |
– |
0,755 |
торный анализ совокупности показателей когнитивной регуляции эмоций и трудностей эмоциональной регуляции (всего 15 переменных). В результате процедуры анализа главных компонент было выделено 5 компонент, подвергнутых в дальнейшем вращению по методу Varimax. Учитывались латентные переменные с факторной нагрузкой более 0,5. Выделенная совокупность факторов объясняет 69 % общей совокупной дисперсии1. Результаты такой ротации после 10 итераций представлены в табл. 2.
Первый фактор (F 1 ) был интерпретирован как «дефицит регуляторного опыта», поскольку он представлен исключительно показателями трудностей эмоциональной регуляции. При этом к числу первостепенных относятся «непринятие эмоциональных реакций», «ограниченность спектра стратегий регуляции эмоций», а к второстепенным – «трудности поддержания целенаправленного поведения», «трудности сдерживания импульсивных реакций».
Интерпретация второго фактора (F2), в силу его биполярности, вербализуется как «низкий уровень рефлексии» («отсутствие осознания эмоциональный реакций», «отсутст- вие ясности понимания эмоциональных реакций» – на положительном полюсе и когнитивная стратегия регуляции эмоций «перефокусировка и планирование» – на отрицательном).
Третий (F 3 ) и пятый (F 5 ) факторы оказались относительно несложными в интерпретации в силу своего двухкомпонентного состава (когнитивные стратегии «обвинение», «катастрофизация» – для F 3 , и диаметрально противоположные друг к другу когнитивные стратегии регуляции эмоций: «принятие» и «самообвинение» – для F5), что позволило их определить как «деструктивная когнитивная регуляция» и «амбивалентная регуляция».
Четвертый фактор (F 4 ) был определен как «отстраненность», поскольку включал в себя когнитивные стратегии «положительная перефокусировка», «позитивная переоценка», «помещение в перспективу».
Регрессионный анализ. Для определения прогностического значения и влияния характеристик эмоциональной сферы и временной перспективы личности на особенности эмоциональной регуляции у лиц, страдающих алкогольной зависимостью, был использован метод множественного регрессионного анализа. Все выделенные на предыдущем этапе исследования пять факторов выступали в качестве зависимых переменных, для которых были построены собственные регрессионные
Таблица 3
Регрессионные модели для четырех факторов эмоциональной регуляции
|
Параметры модели |
Нестандартизованные коэффициенты |
Стандартизованные коэффициенты |
Значения t-статистики |
Уровень значимости |
|
|
В |
Стандарт. ошибка |
Бета |
|||
|
Фактор F2 «Низкий уровень рефлексии» |
|||||
|
Константа |
2,353 |
0,821 |
– |
2,866 |
0,006 |
|
Будущее (ZTPI) |
–0,753 |
0,296 |
–0,429 |
–3,663 |
0,001 |
|
Депрессия» (HADS) |
0,067 |
0,028 |
0,274 |
2,340 |
0,023 |
|
Фактор F3 «Деструктивная когнитивная регуляция рефлексии» |
|||||
|
Константа |
–2,639 |
0,914 |
– |
–2,889 |
0,006 |
|
Тревога (HADS) |
0,086 |
0,030 |
0,358 |
2,909 |
0,005 |
|
Гедонистическое настоящее (ZTPI) |
0,539 |
0,247 |
0,269 |
2,187 |
0,033 |
|
Фактор F4 «Отстраненность» |
|||||
|
Константа |
–2,931 |
0,771 |
– |
–3,802 |
0,000 |
|
Позитивное прошлое (ZTPI) |
0,521 |
0,162 |
0,353 |
3,226 |
0,002 |
|
Фаталистическое настоящее (ZTPI) |
0,654 |
0,156 |
0,471 |
4,187 |
0,000 |
|
Аутоагрессия (STAXI) |
–0,047 |
0,020 |
–0,274 |
–2,407 |
0,020 |
|
Фактор F 5 «Амбивалентная регуляция» |
|||||
|
Константа |
–1,411 |
0,471 |
– |
–2,995 |
0,004 |
|
Контроль агрессии (STAXI) |
0,064 |
0,021 |
0,389 |
3,105 |
0,003 |
|
Выраженность влечения к алкоголю (PACS) |
0,041 |
0,016 |
0,308 |
2,584 |
0,013 |
модели. В качестве предикторов выступали показатели тревоги, депрессии, характеристики агрессии и временной перспективы личности. По итогам этой статистической процедуры исключение наблюдалось только для F 1 , поскольку при построении регрессионной модели для этого фактора в итоговое уравнение регрессии не было включено ни одной переменной. Для определения значимости рассчитанных значений коэффициента детермина-ции2 R² рассчитывался F-критерий Фишера (р < 0,05*). Для выделения информативных переменных-предикторов использовался метод пошагового отбора (значение вероятности F для включения ≤ 0,050, значение вероятности F для исключения ≥ 0,100).
Рассчитанные таким образом регрессионные модели представлены в табл. 3.
Регрессионная модель для F2 («Низкий уровень рефлексии») объясняет 31 % дисперсии зависимой переменной и представлена информативными параметрами «Ориентация на буду- щее» (с отрицательным знаком) и «Депрессия» (положительный знак). Вероятно, такого рода данные могут свидетельствовать о том, что зависимые от алкоголя люди при построении долгосрочных и глобальных жизненных целей испытывают состояние подавленности и беспокойства. Невозможность точного моделирования образа будущего, неопределенность и неуверенность, возникающая при построении целей и планов, может обуславливать различные трудности, связанные с осознанием и пониманием своих собственных эмоций, планирования своих действий и, как следствие, приводить к импульсивному поведению.
Регрессионная модель для фактора F 3 («Деструктивная когнитивная регуляция») объясняет 19 % дисперсии и включает две значимые переменные: «Тревога», «Гедонистическое настоящее». Возможно, что эмоциональное состояние тревоги с отсутствием фокусировки на определенном временном модусе на фоне стремления к получению удовольствий и наслаждений может препятствовать использованию эффективных стратегий регуляции эмоций, что, тем самым, дезорганизует поведение.
Достаточно информативная регрессионная модель для фактора «Отстраненность»
(F 4 , с 41 % объясненной дисперсии) включает параметры временной перспективы «Позитивное прошлое», «Фаталистическое настоящее», а также показатель «Аутоагрессия» (с отрицательным знаком). Вероятно, что позитивное восприятие своего прошлого и принятие настоящего как неизменного, независящего от самого субъекта, а также отсутствие склонности к самоуничижению, определяют использование стратегий когнитивной регуляции, направленных на снижение значимости отрицательных эмоций в личном опыте и на извлечение исключительного положительного смысла и значения событий.
Для фактора F 5 («Амбивалентная регуляция»), объясняющего только 24 % дисперсии переменных, значимыми оказались параметры «контроль агрессии» и выраженность влечения к алкоголю. Очевидно, что высокий уровень сдерживания гнева, агрессии и выраженное влечение к приему алкоголя порождают конфликт между противоречивыми тенденциями, а именно: способностью к сдерживанию агрессии, с одной стороны, и отрицательными эмоциями, вызванными тягой к употреблению алкоголя, с другой.
Обсуждение результатов
Полученные результаты согласуются с другими данными, например, с результатами исследования M. Berking с соавт. (2011), свидетельствующими о наличии связи между выраженностью влечения к алкоголю и потреблением алкоголя, с одной стороны, и навыками эмоциональной регуляции, с другой. При этом дефицит навыков эмоциональной регуляции связан с актуализацией влечения к алкоголю, а недостаточность навыков регуляции эмоций определяет высокий уровень рецидивов заболевания в течение 3 месяцев после прохождения лечения (Berking et al., 2011).
Выявленная пятифакторная структура эмоциональной регуляции в группе пациентов с алкогольной зависимостью показывает, что нарушения осознанной регуляции эмоциональных состояний в основном обусловлены узостью репертуара эффективных способов и приемов управления эмоциями, зачастую отрицательных (F1), с пониженной рефлексией (F2), наличием деструктивных стратегий когнитивной регуляции (F3), а также одновременным сосуществованием двух противоположных стратегий «принятие» и «самообвинение» (F5). При столкновении с проблемными обстоятельствами и ситуациями, требующими сдерживания и управления собственными эмоциями, определение исключительно положительного смысла в них с одновременным отрицанием негативных аспектов является способом эмоционального отстранения, абстрагирования от ситуации (F4).
Описанная по результатам исследования факторная структура регуляторной деятельности у лиц с зависимостью от алкоголя имеет свою специфику, рассматриваемую в зависимости от аффективного состояния и временного модуса. Основным источником нарушений осознанной регуляции эмоций является состояние тревоги, в частности, это касается ограничений в процессах познания и размышлений, касающихся собственных эмоциональных состояний и переживаний (F 2 ), и трудностей в когнитивном управлении, координации собственных эмоций и поведения (F3). Напротив, высокий уровень контроля агрессии как способности управления и торможения собственных аффектов при переживании алкогольного аддиктивного влечения отражается на принятии собственного состояния, эмоциогенных ситуаций и интернальной атрибуции (F 5 ).
Определенные модусы временной перспективы также значимо вносят вклад в эмоциональную регуляцию. Установлено, что при отсутствии ориентации на будущее, при котором поведение не детерминируется планами и целями, закономерно порождаются трудности, связанные с опережающим отражением осознания и выражения собственных эмоций. Следовательно, регуляция эмоций осуществляется на ситуативно-реактивном уровне, в зависимости от контекста ситуации (F 2 ). Позитивное восприятие аспектов прошлого (в виде его положительного событийного наполнения) отражается на склонности к абстрагированию от болезненных переживаний текущих событий, требующих управления собственными эмоциональными состояними (F4).
Заключение
В связи с относительно низкой эффективностью современных методов лечения алкоголизма, нарушения саморегуляции поведения больных алкоголизмом представляются одной из оптимальных мишеней в психологической помощи и психотерапии при такой форме зависимости, ориентированной на достижение высокого уровня осознанности, поиск внутренних ресурсов в целях успешной координации и управления поведением.
Список литературы Саморегуляция и временная перспектива личности: взаимосвязь в контексте феномена зависимости от алкоголя
- Андрющенко, А.В. Сравнительная оценка шкал CES-D, BDI и HADS(d) в диагностике депрессий в общемедицинской практике / А.В. Андрющенко, М.Ю. Дробижев, А.В. Добровольский // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - 2003. - Т. 103, № 5. - С. 8-11.
- Иванников, В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В.А. Иванников. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006.
- Игнатьев, П.Д. Саморегуляция: обзор современных представлений / П.Д. Игнатьев, А.В. Трусова // Петербургский психологический журнал. - 2016. - № 15.
- Илюк, Р.Д. Особенности агрессии и гнева при зависимостях от различных психоактивных веществ. Пособие для врачей / Р.Д. Илюк, Д.И. Громыко, И.В. Берно-Беллекур и др. - СПб., 2012. - 53 с.
- Климанова, С.Г. Особенности субъективного восприятия психологического времени пациентов, проходящих лечение от алкогольной и наркотической зависимостей / С.Г. Климанова, А.В. Трусова, А.А. Березина и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». - 2016. - Т. 9, № 4. - С. 50-63.
- Крупицкий, Е.М. Связь патологического влечения к алкоголю у больных алкоголизмом в ремиссии с рецидивом заболевания / Е.М. Крупицкий, А.А. Руденко, М.В. Цой и др. // Журнал неврологии и психиатрии. - 2007. - Т. 107, № S1. - С. 32-36.
- Писарева, О.Л. Когнитивная регуляция эмоций / О.Л. Писарева, А. Гриценко // Философия и социальные науки: Научный журнал. - 2011. - № 2. - С. 64-69.
- Руководство по реабилитации больных с зависимостью от психоактивных веществ / под. ред. Ю.В. Валентика, Н.С. Сироты. - М.: Литера-2000, 2002. - 256 с.
- Сергиенко, Е.А. Контроль поведения: индивидуальные ресурсы субъектной регуляции [Электронный ресурс] / Е.А. Сергиенко // Психологические исследования: электрон. науч. журн. - 2009. - № 5(7).
- Сырцова, А. Адаптация опросника по временной перспективе Ф. Зимбардо на русскоязычной выборке / А. Сырцова, Е.Т. Соколова, О.В. Митина // Психологический журнал. - 2008. - № 3. - С. 101-109.
- Трусова, А.В. Временная перспектива в структуре мотивации сохранения здоровья / А.В. Трусова, С.Г. Климанова, А.С. Киселев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. - 2013. - № 4. - С. 61-67.
- Трусова А.В., Климанова С.Г. Когнитивный контроль при алкогольной зависимости: обзор современных исследований / А.В. Трусова, С.Г. Климанова // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. - 2015. - № 3(9) [Электронный ресурс].
- Adams, J. Time perspective, personality and smoking, body mass, and physical activity: An empirical study / J. Adams, D. Nettle // British journal of health psychology. - 2009. - Vol. 14, № 1. - P. 83-105.
- Armeli, S. A daily process approach to individual differences in stress-related alcohol use / S. Armeli, M. Todd, C. Mohr // J. Pers. - 2005. - Vol. 73, № 6. - P. 1657-1686.
- Berking, M. Deficits in emotion-regulation skills predict alcohol use during and after cognitive-behavioral therapy for alcohol dependence / M. Berking, M. Margraf, D. Ebert et al. // Journal of Consulting and Clinical Psychology. - 2011. - Vol. 79(3). - P. 307-318.
- Dawson, D.A. The association between stress and drinking: modifying effects of gender and vulnerability / D.A. Dawson, B.F. Grant, W.J. Ruan // Alcohol Alcohol. - 2005. - Vol. 40, № 5. - P. 453-460.
- Fieulaine, N. About the fuels of self-regulation: Time perspective and desire for control in adolescents substance use / N. Fieulaine, F. Martinez // The psychology of self-regulation. - 2011. - P. 102-121.
- Garnefski, N. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems / N. Garnefski, V. Kraaij, P. Spinhoven // Personality and Individual Differences. - 2001. - № 30. - P. 1311-1327.
- Gratz, K.L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale / K.L. Gratz, L. Roemer // Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. - 2004. - № 26(1). - P. 41-54.
- Gross, J.J. Emotional suppression: physiology, self-report and expressive behavior / J.J. Gross, R.W. Levenson // Journal of Personality and Social Psychology. - 1993. - № 64(6). - P. 970-986.
- Gross, J.J. Emotion Regulation: Conceptual foundations / J.J. Gross, R.A. Thomson // In: J.J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press, 2007. - P. 3-24.
- Henson, J.M. Associations among health behaviours and time perspective in young adults / J.M. Henson, M.P. Carey, K.P. Carey, S.A. Maisto // Journal of behavioral medicine. - 2006. - № 2. - P. 127-137.
- Keough, K.A. Who's smoking, drinking, and using drugs? Time perspective as a predictor of substance use / K.A. Keough, P.G. Zimbardo, J.N. Boyd // Basic and applied social psychology. - 1999. - Т. 21. - № 2. - P. 149-164.
- Ortuсo, V.E.C. Links between Time Perspective and alcohol consumption. 2010 / V.E.C. Ortuсo, V. Gamboa, C. Gomes. - http://www.academia.edu/ 2535063/Links_between_Time_Perspective_and_alcohol_consumption (дата обращения: 18.05.2018).
- Wills, T.A. Time perspective and early-onset substance use: A model based on stress-coping theory / T.A. Wills, J.M. Sandy, A.M. Yaeger // Psychology of addictive behaviors. - 2001. - Т. 15, № 2. - P. 118.