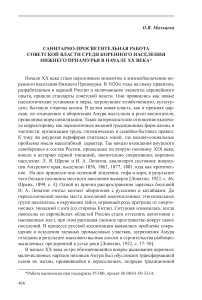Санитарно-просветительная работа советской власти среди коренного населения Нижнего Приамурья в начале XX века
Автор: Мальцева О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521575
IDR: 14521575
Текст статьи Санитарно-просветительная работа советской власти среди коренного населения Нижнего Приамурья в начале XX века
В начале ХХ века остро обозначившийся вопрос выживания коренных малочисленных народов низовьев Амура был обусловлен трансформацией основ их жизни, проявившейся в переселениях, подрыве традиционной хозяйственной, социально-бытовой, культурной сферы. Негативными явлениями в среде аборигенов стало пьянство, опиекурение при отсутствии гигиенических норм, консерватизме бытовых и трудовых правил [Арсеньев, 1914; Лопатин, 1922].
В 1929 г. бактериологический институт и врачебно-санитарный отряд Далькрайздрава совершили экспедицию в долину Амура с целью изучения санитарного состояния, заболеваемости местных народностей и проведения медико-профилактической работы с ними. Пойменная часть реки, где отмечалась высокая плотность населения, привлекла внимание исследователей как зона контактов аборигенов с иноземными группами. В низовьях реки, ближе к устью, размещались рыболовецкие фактории; в верховьях (в средней части Амура и ближе к истоку) сосредотачивалось население, прибывающее из земледельческих районов России. Нивхи, ульчи, амурские нанайцы в первую очередь испытали влияние «чужаков» с иными культурными ценностями и правилами общежития. Комиссия констатировала, что «цивилизация пришла к инородцам в форме спирта, сифилиса» [ХКА, ф. 683, оп. 1, д.79, л. 24]. На момент проведения отрядом Далькрайздрава в районе рек Кур и Тунгуски (ареале нанайцев) полевых исследований в нем проживало 608 коренных жителей. По статистическим данным за период 15 лет (с 1914 по 1929 гг.) в этом районе родилось 316 чел., умерло 254 чел. На фоне прироста – 62 человека, отмечалась высокая смертность детей [ХКА, т. с.].
Основанием слабого прироста служили различного рода заболевания. У нанайцев на первом месте стояли расстройство питания и обмена (27,2 %), хронический ревматизм. Следующие места занимали болезни органов зрения (20,9 %), органов пищеварения (14 %), инфекционные (8,9 %), туберкулез легких и других органов (8 %), кожные заболевания (8 %), болезни органов дыхания (5,5 %) [ХКА, ф. 683, оп. 1, д.79, л. 34–35].
Характер болезней объяснялся традиционными условиями быта и «профессиональными» особенностями. Нахождение на открытом воздухе во время летних ливней или зимних морозов, простаивание в холодной водной при осенней ловле кеты провоцировали гриппозные, остролегочные заболевания. Специальный дымокур в домах с целью защиты от комаров и мошки, традиционный костер с постоянным дымом являлись причиной развития трахомы, от которой страдали взрослые и дети. Перебои в питании приводили к расстройству пищеварения, нарушению обмена веществ. Сыроедение, постоянный контакт с собаками, отсутствие гигиенических навыков создавали почву для заразных болезней, грозивших перерасти в новую волну эпидемий.
Особенно тревожной была ситуация в приустьевой части Амура, где отмечалась большая загрязненность берега и воды отбросами рыбалок [ХКА, ф. 683, оп. 1, д. 30, л. 2–10]. «Крестьяне и гиляки (нивхи) большую часть отбросов выбрасывают в воду, часть оставляют на берегу, где они гниют. Рыбный промысел, сливные воды спускают тут же, а внутренности вывозят на середину реки, откуда иногда вымывает их на берег» [ХКА, ф. 683, оп. 1, д. 30, л. 4]. Решено было для предотвращения распространений заразных болезней строить на месте рыбалок уборные и бани. Но не все промысловые коллективы соблюдали правила обязательного мытья в банях, старшее поколение нивхов это занятие просто игнорировало. Комиссия как негативный фактор выявила, что жилище нивхов имеет общие нары, посуду и трубку, которую начинают курить с 5–6 летнего возраста. Это способствует распространению туберкулеза. Употребление в пищу сырого мяса, в виде строганины, влечет за собой желудочно-кишечные заболевания.
В среде коренного населения санитарный отряд развернул просветительскую деятельность в форме бесед, демонстрации плакатов на тему о вреде использования сырого мяса, объяснял необходимость использовать рыбу в жаренном или вареном виде. Агитаторы и медработники для наглядности показывали под микроскопом пораженные глистами внутренности тюленя или дельфина, что производило большое впечатление на присутствующих. Они призывали слушателей противодействовать плеванию на пол (особенно для бациллоносителей), пользоваться отдельной посудой, проветривать помещение. Под давлением санитарной комиссии промысловые рабочие занялись уборкой береговой части от отбросов.
Отдельный вопрос был посвящен изменению организации труда, улучшению быта промысловых рабочих. Постепенно в местах промысла стали сооружать одноэтажные, двухэтажные бараки, временные хижины, прачечные, бани. Промысловый труд был дифференцирован и облегчен. Рабочие разделялись на береговых, чернорабочих, жестянщиков (занимающихся консервированием рыбы), уборщиков, санитаров, сортировщиков, «кишечников», укладчиков, мойщиков, чистильщиков, засольщиков, «ик-рянников» и т.д. [ХКА, ф. 683, оп. 1, д. 30, л. 11–13, 30–31].
Преобразование жилищных условий коренного населения и приобщение его к земледельческому труду считалась наиважнейшей задачей установления советской власти в низовьях Приамурья. Эта проблема имела и медико-социальный аспект. По данным комиссии, в ареале нивхов и амурских нанайцев в начале ХХ века появились избы русского типа, из толстых бревен с застекленными окнами, закрываемыми ставнями. Но отличительной особенностью этих жилищ являлось отсутствие печного отопления. Первоначально многие аборигены не видели надобности в использовании печей. К примеру, в стойбище Сикачи-Алян русскую печку, имеющуюся в одном доме, не использовали для приготовления еды. В другом стойбище глиняная русская печь была устроена на открытом воздухе. Подчеркивался аскетический интерьер многих жилищ, лишенный мебели – стола, табуретов, стульев, диванов. Данная обстановка свидетельствовала и об образе жизни их обитателей. Как заключил санитарный отряд по поводу режима питания нанайцев: «Есть хорошая добыча рыбы или мяса – гольдская семья сыта, плохая добыча – семья голодает». Жизнь за счет рыболовства и охоты, нехватка земледельческих продуктов, отсутствие опыта консервирования, приготовления горячей пищи делала незащищенным коренное население от цинги и туберкулеза. Физический вид аборигена стал показателем его условий существования. Врачебно-санитарный отряд констатировал: «Недостаточная упитанность, слабо выраженный подкожный жировой слой, бледность кожных и слизистых покровов, малокровие» [ХКА, ф. 683, оп. 1, д. 79, л. 22–35].
В отдаленных от Амура стойбищах, находящихся в надпойменной части, вблизи горной тайги, без шамана не обходилось ни одно лечение. Население (в частности тунгусы), проживающее в стороне от русла реки и благ цивилизации, представляло опасность как источник новых эпидемий. Но к 1930-м годам жизнь таежных охотников затронули инновации. В отчетах врачебной комиссии на острове Бошняка засвидетельствовано, что местные орочены (эвенки) живут в палатках и ровдужных шатрах, отапливаемых железными печами; охотно моются в бане, имеют фарфоровую посуду, приобрели культурные привычки [ф. 683, оп. 1, д. 77].
Со второй половины 30-х годов наметилась тенденция сворачивания санитарно-просветительной работы, проводимой советской властью в малочисленных этнических общностях с учетом их реального состояния [История…, 2003, с. 7]. К этому времени в среде коренных народов юга Дальнего Востока стало нормой обращение за амбулаторной, стационарной медицинской, родильной помощью. Стандарты советского общества (в виде деревянного дома с печным отоплением, европейской одежды и кухни) прочно вошли в быт и культуру аборигенов Амура.