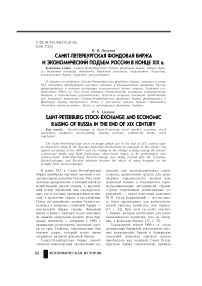Санкт-петербургская фондовая биржа и экономический подъем России в конце XIX в
Автор: Лизунов Павел Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономические реформы в России: история и современная практика
Статья в выпуске: 2 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется Санкт-Петербургская фондовая биржа, которая в конце XIX столетия приобретает огромное значение в промышленном развитии России, превратившись в важный институт экономической жизни страны. Типичной особенностью 1890-х гг. был рост обменной деятельности частными коммерческими банками и банковскими учреждениями; торговля акциями начинает преобладать над товарной торговлей. Санкт-Петербургская фондовая биржа формируется в фондовую биржу европейского типа, и российские ценные бумаги становятся объектом многочисленных сделок в иностранных фондовых биржах.
Санкт-петербургская биржа, фондовый рынок, ценные бумаги, биржевые операции, дивиденды, биржевой ажиотаж, акционерные общества, коммерческие банки, биржевое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/14723539
IDR: 14723539 | УДК: 94:335.762(470.23-25)
Текст научной статьи Санкт-петербургская фондовая биржа и экономический подъем России в конце XIX в
The Saint-Peterburg fund stock exchange which was in the end of XIX century quite an important thing in the Russian industrial development in analysed in the article. The typical pecularity of the 1890-s was the raising of the change activity among the private commercial banks and bank institutions; share-trade began to be predominant over product-trade. Saint-Peterburg Stock-Exchange was being formed info the European Stock-Exchange, and Russian sekurites became the object of many bargains on the foreigh fund stock-exchanges.
В конце XIX в. Санкт-Петербургская биржа приобрела огромное значение в индустриальном развитии России. Она окончательно превратилась в важный институт хозяйственной жизни страны, в крупнейший центр обращения как государственных, так и частных промышленных ценностей, в средоточие спроса и предложения. Почти все российские ценные бумаги находились в котировке столичной биржи — центральной биржи страны. Фондовый рынок страны с каждым годом пополнялся новыми выпусками разного рода биржевых ценностей, с которыми с 1893 г. официально разрешалось заключать сделки на срок. Наконец, законодательно был отменен запрет, который долгое время сдерживал развитие фондовой биржи.
Санкт-Петербургская биржа способствовала концентрации значительных ка- питалов для железнодорожного строительства, привлечению средств для акционерного учредительства частных коммерческих банков и большинства торгово-промышленных предприятий страны. «Среди современных хозяйственных учреждений, — писал известный экономист М. И. Туган-Барановский, — нет ни одного более характерного для капиталистической системы хозяйства, чем биржа» [17, с. 24]. При этом он особо отмечал: «...биржа, которая необходима для капиталистического хозяйства, есть не товарная, а фондовая биржа» [17, с. 37].
Характерной чертой 1890-х гг. стала активизация биржевой деятельности частных коммерческих банков и банкирских заведений, фондовая торговля начала преобладать над товарной. Санкт-Петербургская биржа окончательно приняла европейский вид, русские ценные бумаги стали объектом многочисленных сделок на иностранных биржах.
К середине 1890-х гг. мировое капиталистическое производство окончательно вышло из депрессии, начали оживление и подъем экономики. «Всюду, после долгого застоя, — писала «Торгово-промышленная газета», — пробуждались со свежей энергией производительные силы; Англия и с ней другие страны стряхнули последние следы крушения мировой фирмы “Беринг и Ко”; Соединенные Штаты покончили с перипетиями пересмотра своего таможенного устава; чувствовалось серьезное выступление покупателей на международном рынке; кожи, железо, чугун сразу пошли в гору; война между двумя крупными восточными державами прекратилась; открывались виды на займы, на заказы и, наконец, лился из-за океанских стран небывалый поток золота» [16].
В России начавшийся промышленный подъем вызвал новую активизацию железнодорожного строительства, усиленный рост металлургической и нефтяной промышленности, учреждение многочисленных акционерных обществ и компаний. Многие металлургические заводы были обеспечены на несколько лет крупными правительственными заказами для строительства железных дорог. Выкуп в казну ряда частных железных дорог и конверсия некоторых государственных гарантированных займов способствовали появлению свободных капиталов у русской буржуазии. Для образования необходимых акционерных капиталов предприниматели начали активно выпускать различные бумажные ценности и размещать их на Санкт-Петербургской бирже.
Данные об образовании новых акционерных обществ (табл. 1) показывают яркую картину «учредительской горячки». За 1894— 1899 гг. было выдано 927 разрешений на учреждение акционерных обществ и паевых товариществ с общей суммой капиталов в 1 149,6 млн руб.
Такое усиление учредительства весьма показательно для периода экономического подъема. Обстановка экономического оживления, рост доходности акционерных обществ, наличие на рынке свободных ка-
Таблица 1
Образование новых акционерных обществ 1894—1899 гг. [2, с. 25]
Акции Русского для внешней торговли банка, котировавшиеся в январе 1894 г. по 327 руб., достигли в августе 1895 г. уже 550 руб. Акции Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка с 486 руб. в январе 1894 г. поднялись до 770 руб. в августе 1895 г. Акции Учетного и ссудного банка сделали за тот же период времени скачок с 466 до 960 руб., а акции Волжско-Камского банка с 890 до 1 400 руб.
Вслед за движением акций коммерческих банков произошло стремительное повышение курсов акций различных промышленных предприятий. Так, акции Брянского завода, стоившие в январе 1894 г. 133,5 руб., поднимаясь скачками до 200, 300, 400 руб., достигли в августе 1895 г. цены 580 руб. за акцию. Акции Пу-тиловского завода с 75 руб. в январе 1894 г. поднялись до 194 руб. в январе 1895 г. Акции Русско-Балтийского вагоностроительного завода, появившись на бирже в мае 1894 г. по цене 750 руб., уже в мае следующего года достигли уровня
2 200 руб., а в июле и августе — 2 500 руб. Акции Общества Мальцовских заводов номинальной стоимостью 500 руб. появляются на бирже в декабре 1894 г. сразу же с огромной премией по цене 1 250 руб. и доходят в том же месяце до 1 350 руб. Все это вызвало повышенный интерес к дивидендным бумагам как и капиталистов, так и у самых широких кругов общества.
Акции вновь появившихся предприятий стали выпускаться с премиями, сначала небольшими, а затем все более увеличивавшимися в своих размерах. Чем больше была премия, с которой акция начинала котироваться на бирже, тем больше, с одной стороны, она внушала к себе доверие как акция доходная, а с другой — тем быстрее она обеспечивала верный доход учредителям от реализации акций на бирже сверх номинальной стоимости. Выпуск акций новых предприятий с премиями стал обыденным явлением. Премии доходили до 100, 200 и более процентов [13, л. 5 об]. Таким образом, естественное в начале стремление широких слоев «публики» к помещению своих сбережений в промышленные ценности переросло в биржевую горячку, напоминавшую конец 1860—1870-х гг.
М. И. Туган-Барановский так описывал события тех лет: «Биржевая спекуляция начинает развиваться на Петербургской бирже с конца 1893 г. Курсы всех бумаг делают огромный скачок кверху. Произошла полная перемена биржевого настроения. Биржевая спекуляция расправила крылья и смело устремилась вперед. 1895 г. был еще лучше предшествовавшего» [18, с. 349].
Быстрый подъем цен на котировавшиеся бумаги на бирже, высокие дивиденды, выдаваемые даже недавно открывшимся предприятиям, разговоры о скором, нередко в один день, и легком обогащении — все это привлекало к игре с акциями самую пеструю и разношерстную «публику» (под термином «публика» подразумеваются все лица, не принадлежавшие к числу профессиональных биржевиков). Тысячи лиц сделались акционерами совершенно им неведомых предприятий, все сведения о которых ограничивались лишь слухами из десятых рук о предстоящем повышении их биржевых ценностей. Многие современники обращали внимание на то что, около биржи, банков и банкирских контор «появились совершенно дотоле неведомые лица: дамы, чиновники, генералы, офицеры, кабатчики, гробовщики, просто люди без определенных занятий» [15, с. 8].
Соответственно своему социальному положению все игравшие разделились на отдельные группы. Побогаче, повиднее и почопорнее собирались в первоклассных банках; менее притязательные, помельче и порискованнее ютились в банкирских конторах; еще помельче — у меняльных лавок. Вся эта разнородная толпа страждущих бегала по банкам, банкирским конторам и менялам начиная с раннего утра.
Биржевые хроники газет за август 1895 г. — время наивысшего расцвета спекуляции на Санкт-Петербургской бирже — сообщали: «Мало оживления... по отношению к рентным бумагам... сделок почти никаких; так это наша биржа привыкла к подневным разницам в десятки рубли, что ей и в голову не идут какие-то восьмушечные разницы в ценах на рентные бумаги, и потому весьма удивительно, если не более, смотреть на тех, кто справляется об этих ценах. Вот на спекулятивном рынке зато происходит настоящая вакханалия и по временам стоит такой шум и гам, точно присутствуешь на легендарном сборище на Лысой горе; цены подымаются с головокружительной быстротой, но почему, на основании каких соображений, — этого никак не добьешься, да особенно никто этим не интересуется, благо цены все поднимаются и поднимаются» [5].
С отдельными бумагами, являвшимися преимущественными объектами игры, бывали изменения поистине поразительные. Разница курсов доходила до нескольких десятков и сотен рублей в одну биржу. Такие скачки могли выдержать лишь люди опытные, располагавшие значительными средствами.
Повышение цен, начавшееся в 1894 г., постепенно усиливаясь, продолжалось до второй половины 1895 г. В августе биржевое увлечение достигло апогея. В начале сентября началось обратное движение: курсы всех акций стали резко понижаться, некоторые упали на 10—100 % и более. Газеты запестрели примерно одинаковыми отчетами: «На фондовой бирже очень и очень тихо... спекуляция также притихла и нет уже в ней прежнего широкого бесша- башного маха и только время от времени проявляется некоторое оживление, вскоре, впрочем уступающее место унынию и вялости настроения» [6]. Дни 23 сентября и 4 октября 1895 г. стали «черными днями» на Санкт-Петербургской бирже.
Началом биржевого краха в Санкт-Петербурге послужили события, произошедшие в Париже, где ранее поднятые до «несоразмерно высокой цены» брянские акции резко упали в цене. Стремительное и паническое падение вслед за брянскими других русских ценностей на Парижской бирже не могло не отразиться на биржах Санкт-Петербурга и Москвы. Так, акции Брянского завода с 580 руб. в августе упали в октябре до 410 руб., в ноябре до 400 руб.; акции Пу-тиловского завода со 179 руб. в августе опустились до 150 руб. в сентябре и до 120 руб. в октябре; мальцовские акции, показывавшие еще в июне высший курс 1 150 руб., опустились в октябре до 500 руб., а в декабре до 450 руб.
Такие же значительные понижения произошли и с акциями частных коммерческих банков. Акции Учетного и ссудного банка с 910 руб. в августе упали до 754 руб. в октябре и 740 руб. в ноябре; акции Русского для внешней торговли банка понизились с 550 руб. в августе до 468 руб. в ноябре; акции Международного банка с 740 руб. в августе упали до 654 руб. в октябре и 635 руб. в ноябре.
В рядах спекулирующей «публики» произошло смятение, затем началась паника. Банки ввиду резко понизившейся стоимости заложенных ценностей стали требовать дополнительных взносов по ссудам, выданных под залог ценных бумаг по онкольным счетам. Многие оказались не в состоянии внести эти дополнительные суммы, так как все их средства были поглощены спекуляцией. Банки произвели экзекуционные продажи заложенных бумаг, что привело к еще большему понижению курсов и разорению мелкой «публики».
Паника, однако, продолжалась недолго. Промышленный подъем был в разгаре, а наступивший кризис был чисто биржевым и поэтому не мог долго продолжаться. Понесенные «публикой» потери оценивались в несколько десятков миллионов рублей [15, с. 29].
Министерство финансов весьма отрицательно отнеслось к биржевому ажиотажу. Повышение курсов акций квалифицировалось им как «нездоровое возбуждение», «зловредная спекуляция», «биржевая вакханалия» и т. п. Во всеподданнейшем докладе министра финансов о государственной росписи доходов и расходов на 1896 г. биржевое увеличение 1895 г. признавалось «одним из первых в ряду отрицательных явлений русской экономической жизни» [10, л. 1; 2, с. 1146]. Официально признавалось, что биржевой ажиотаж достиг очень сильного распространения и охватил спекулятивной лихорадкой обширные слои общества. Министерство финансов на страницах «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов» неоднократно предупреждало широкую «публику» «об опасности последствий увлечения биржей» и возможных потерях: «Здесь выигрывает всегда тот, на чьей, стороне при больших средствах, позволяющих выдержать трудные минуты в ожидании поворота к лучшему, еще и практическая опытность, специальная подготовка, осведомленность о многих подробностях и данных торгово-промышленных предприятий и их конкурентов и особое, приобретенное навыком искусство комбинировать... Но вовлекаемой в игру публике, не причастной к торгово-промышленной деятельности почти все эти условия выигрыша... недоступны, а потому вполне естественно, что ей достается в этой неравной игре роль жертвы, шансы же выигрыша все на стороне специалистов биржевой игры — опытных и сильных игроков, для которых игра составляет привычную сферу деятельности» [10, л. 1; 2, с. 1149].
Усиленное увлечение биржевой игрой вынудило Министерство финансов принять ряд мер к устранению этого «болезненного явления». В 1895 г. было сделано распоряжение, согласно которому бумаги частных торгово-промышленных предприятий допускались к котировке только с разрешения министра финансов. Кроме того, с целью сокращения спекуляции с бумагами, выпускаемыми в обращение, финансовое ведомство принимало меры к ограничению допуска бумаг новых выпусков к котировке на бирже. Эти нововведения, по признанию Министерства финан- сов, «хотя и ослабили несколько ажиотаж, но полного успеха не имели, и повышательное движение всех без разбора ценностей продолжалось и дальше» [13, л. 5 об]. Председатель правления Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка А. Ю. Ротштейн в январе 1895 г. в письме к Г. К. Спитцеру сообщал: «...здесь сейчас проводится борьба со спекуляцией... К спекулянтам... склонны причислять каждого, кто имеет годовой доход больше 20 тыс. руб.» [14, с. 78].
Последующие события показали, что, несмотря на все предостережения и принятые административные меры по устранению нежелательных явлений, на бирже ничего не изменилось. Во всех грехах правительство обвиняло столичную биржу и ее постоянных посетителей: «Санкт-Петербургской бирже принадлежит, несомненно, видная роль в развитии повышательной тенденции фондового рынка и затем в обратном движении цен. Многие лица, посещавшие биржу, исполнявшие на ней приказы публики, а равно спекулирующие за свой счет неоднократно оказывали давление на рынок в ту или иную сторону, пользуясь для сего всякими экономическими и политическими событиями...» [13, л. 5 об].
Однако С. Ю. Витте считал, что нездоровое увлечение на Санкт-Петербургской бирже еще «далеко не достигло... ни той напряженности, ни того распространения, каким отличались спекулятивные горячки минувшего года (1895) на западе Европы, тем не менее обычная развязка таких увлечений в виде потерь, а в отдельных случаях и разорений, оказалась особенно болезненной и производила угнетающее впечатление, как нечто неожиданное, ненормальное и недопустимое...». Причины особенной впечатлительности русского общества к последствиям биржевой горячки министр финансов видел в «сравнительной новизне спекулятивных увлечений в России» [10, л. 1].
Министр финансов полагал, что нельзя «огульно осуждать спекуляцию», роль которой «в экономической деятельности бывает и положительная или полезная, и отрицательная или вредная, смотря по тому, совпадает ли спекуляция с условиями нормального хода торгово-промышленной деятельности... или же работает в обратном направлении, возбуждая... стремление доби- ваться выгоды исключительным ослаблением устойчивости рынка постоянными колебаниями цен, что... сообщает торгово-промышленному обороту характер игры и ажиотажа» [10, л. 2—3]. В первом случае она признавалась нормальным экономическим явлением, не только безвредным, но даже совершенно необходимым для экономического развития. С. Ю. Витте отмечал, что такая спекуляция способствует приливу капиталов в те предприятия, для которых они собираются при помощи выпуска ценных бумаг на фондовой бирже, а также более равномерному распределению ссудных капиталов, привлекая свободные средства в долгосрочные бумаги. Такое увлечение министр финансов называл «одним из важнейших положительных факторов торгово-промышленного оборота» [10, л. 5]. При иных направлениях развития спекуляции, когда она «идет рука об руку с биржевой игрой и может переходить в самый разнузданный ажиотаж» министром финансов признавалась отрицательным явлением [10, л. 5].
Оправившиеся после осеннего кризиса 1895 г. курсы акций частных коммерческих банков Санкт-Петербурга в начале следующего года начали вновь котироваться по довольно высоким ценам. Вслед за ними повысились курсы и некоторых промышленных предприятий, например акции Брянского завода, Русско-Балтийского вагоностроительного завода и др. Однако путиловские, сормовские, мальцовские, сергино-уфалейские и некоторые другие акции после пережитого осеннего понижения уже не смогли подняться до высот, достигнутых в повышательную кампанию 1894— 1895 гг.
Биржевая спекуляция нашла новые ценности для игры на повышение. Объектом игры на этот раз стали нефтяные ценности, с которыми повышательное движение приняло примерно такие же размеры, как с металлургическими и банковскими бумагами в 1894—1895 гг. Фаворитами стали акции Каспийского нефтепромышленного и Бакинского Нефтяного обществ.
Паи Каспийского нефтепромышленного и торгового общества продержались первые месяцы 1896 г. на уровне номинальной стоимости 1 000 руб., в мае поднялись до 1 500 руб. и продержались в пределах 1 400 — 1 700 руб. всю вторую половину
1896 г. и первую половину 1897 г. В авгус те 1897 г. каспийские паи поднялись до уровня 2 200 руб., в апреле 1898 г. достигли отметки 3 500 руб., в июле — 5 350 руб., а в декабре — 5 850 руб.
Акции Бакинского Нефтяного общества, номинальной стоимостью в 100 руб., уже в начале 1896 г. котировались на Санкт-Петербургской бирже очень высоко — по 380—400 руб., в июне они дошли до 500 руб. и в декабре — до 554 руб. На этом уровне они продержались весь 1897 г. В 1898 г. произошел новый подъем бакинских акций: в апреле они достигли уровня 600 руб., в августе — 700 руб., а в декабре — 758 руб.
Таких же высоких цен на русских биржах достигли и другие нефтяные бумаги. Причиной повышения их биржевых курсов, отчасти, были возросший спрос на нефть на мировом рынке и, как следствие, подскочившая ее стоимость. Однако не только это определяло столь значительный рост цен на бумаги нефтяных компаний в период 1896—1898 гг. Повышенный интерес являлся результатом биржевой спекуляции, избравшей объектом игры нефтяные ценности.
1899 г. начался на бирже неплохо, казалось, все благоприятствовало игре, но оживление продолжалось лишь до первых чисел февраля, когда началось резкое падение всех бумаг, усиливавшееся с каждым месяцем. Летом разразился крах известного миллионера П. П. фон Дервиза, тесно связанного со многими промышленными и кредитными предприятиями. Для биржи это было большой неожиданностью, к которой совершенно были не готовы или, как говорили, «биржа не успела учесть его последствий».
Вскоре после банкротства фон Дервиза последовал крах не менее известного миллионера и мецената С. И. Мамонтова, с которым также были связаны многие предприятия. Для многих фигуры фон Дервиза и Мамонтова были олицетворением богатства и процветания [1, с. 128]. В марте 1900 г. произошел крах петербургского торгового дома Г. И. Пализен. Эта фирма в течение своего 50-летнего существования вела разнообразную торговую деятельность, участвуя в качестве крупного акционера в делах Общества писчебумажной фабрики Г. И. Пализен, Товарищества Ржевской писчебумажной фабрики, Общества Кошелевских писчебумажных фабрик, Общества «Издатель» и др. [1, с. 130] 12 мая 1900 г. приостановила свои платежи банкирская контора А. Н. Кутузова в Санкт-Петербурге.
Эти банкротства оказали удручающее впечатление на биржу. За ними последовали разорения мелкой и средней «публики». Не в лучшем положении оказались и некоторые коммерческие банки, так как их портфели были переполнены ценными бумагами. Министерство финансов вначале отнеслось довольно безучастно к положению денежного рынка, предоставляя банкам самим выпутываться из затруднительного положения.
Весной 1901 г. произошел крах харьковского банкира и промышленника А. К. Алчевского. Все его попытки получить помощь от правительства закончились отказом со стороны Министерства финансов. Не найдя другого выхода, он бросился под поезд. Смерть Алчевского совпала с обнаружением стесненного положения нескольких основанных им коммерческих и промышленных предприятий, в которых он до самой гибели принимал близкое участие как член правлений и крупный акционер [12, л. 50].
Пошатнулись дела банкирского дома Л. С. Полякова. В весьма затруднительном положении оказались и связанные с ним некоторые частные коммерческие учреждения: Московский Международный торговый, Орловский Коммерческий и Южно-Русский Промышленный банки [12, л. 50, 57—62].
Биржевые операции еще с лета 1899 г. надолго встали на «мертвую точку» и всякие попытки «гальванизировать» биржу оставались безрезультатными. Малейшее оживление пресекалось через несколько часов или дней, затем бюллетень гласил: «твердо, но тихо». «Твердо», т. е. никто не продает, «тихо» — никто не покупает. Газеты писали: «Мы переживаем кризис, развитию которого не предвидится конца... бюллетени приносят с каждым днем все новые и новые понижения самых солидных ценностей...» [7]; «на бирже с каждым днем становится все хуже и хуже, положение приобретает положительно угрожающий характер» [8, с. 573].
В сентябре 1899 г. Министерство финансов вынуждено было «в отступление от устава» Государственного банка принять новые меры «для устранения... нежелательных последствий» биржевого ажиотажа и кризиса. Во всеподданнейшем докладе 12 сентября 1899 г. С. Ю. Витте предлагал разрешить Государственному банку «принимать в залог, а равно и приобретать в собственность на условиях, утвержденных в каждом отдельном случае министром финансов, облигационные выпуски таких предприятий, жизнеспособность которых не подлежит сомнению...» [12, л. 10 об]. На что последовало высочайшее соизволение.
Для противодействия «необоснованным колебаниям цен дивидендных бумаг» и борьбы против понижателей по инициативе С. Ю. Витте 2 октября 1899 г. был образован «синдикат из 15 главных петербургских банков и банкиров с капиталом в 5 500 000 рублей» [12, л. 12]. Он также был известен под названием биржевой или банковский «Красный крест». В силу отсутствия у банков свободных средств операции синдиката авансировались Государственным банком. Целью синдиката являлось предотвращение резкого падения цен, обращающихся на Санкт-Петербургской бирже дивидендных бумаг, путем их покупки и продажи.
В дальнейшем деятельность синдиката неоднократно возобновлялась, и увеличивался его капитал. Так было в июне и декабре 1900 г., в марте 1901 г., в январе 1904 г., декабре 1905 г. Просуществовал синдикат до апреля 1917 г., когда и был окончательно упразднен.
8 декабря 1899 г. был издан высочайший рескрипт, в котором указывалось: «Настоящее положение вещей не требует никаких исключительных мер, принятые же Министерством финансов и Государственным банком частные меры для успокоения рынка и поддержки некоторых солидных предприятий должны быть в случае необходимости продолжены...». Предложения С. Ю. Витте о необходимости пересмотра устаревших биржевых и акционерных законодательств признавались вполне своевременными [9, л. 1об. — 2]. Рескрипт был опубликован в «Правительственном вестнике» и других русских газетах, а также разослан иностранным телеграфным агентствам [9, л. 4].
Все эти меры по созданию биржевого «Красного креста» хоть и ослабили несколько напряженность на фондовом рынке, но полностью облегчить его положения не могли. Биржевой крах 1899 г. явился началом промышленного кризиса 1900— 1903 гг., и никакие правительственные меры не могли предотвратить грядущие экономические и финансовые потрясения.
С наступлением кризиса рынок ценных бумаг сократился до минимума. Фондовая биржа фактически бездействовала. Данные таблицы показывают значительное падение количества акций, вводимых в котировку на Санкт-Петербургской бирже, а также и уменьшение общей суммы допущенного к котировке капитала (табл. 2).
Таблица 2
Изменение количества акций и общей суммы капитала в 1899-1907 гг. [4]
|
Год |
Количество акций |
Общий капитал |
|
1899 |
36 |
91 799 800 |
|
1900 |
21 |
36 602 000 |
|
1901 |
5 |
10 500 000 |
|
1902 |
2 |
4 250 000 |
|
1903 |
9 |
26 100 000 |
|
1904 |
6 |
26 595 625 |
|
1905 |
7 |
17 850 000 |
|
1906 |
7 |
24 589 000 |
|
1907 |
7 |
22 400 000 |
Таким образом, Санкт-Петербургская фондовая биржа к концу XIX в. превратилась в своеобразный «барометр» экономической жизни России, регулятор спроса и предложения, аккумулятор свободных капиталов. Первенство столичной биржи обусловливалось тем, что в Санкт-Петербурге находилось большинство кредитных учреждений, правлений акционерных компаний, пароходных и железнодорожных обществ, Государственный банк, Государственное казначейство, обращались почти все русские дивидендные ценности. Их сосредоточение в одном месте превращали Санкт-Петербургскую фондовую биржу в главный резервуар, из которого при помощи выпуска акций и облигаций черпались необходимые средства для индустриального развития внутри страны.
Государство как эмитент различных правительственных бумаг проявляло по- стоянную заинтересованность в правильном функционировании именно столичной фондовой биржи. Забота о внешнем и внутреннем кредите, курсе фондов и рубля побуждала правительство заниматься биржевым регулированием и законодательством, особенно в периоды биржевых и экономических кризисов. Особенно преуспел на этом поприще С. Ю. Витте. Вмешательство государства в дела фондовой биржи стало одним их характерных явлений для экономики России конца XIX в.
Начало оживления на бирже обыкновенно встречали сочувствие со стороны правительства, усматривавшего в нем признаки пробуждения промышленной деятельности и доверие к государственному кредиту. Дальнейшие события, связанные с развитием на бирже спекулятивной игры, достигавшей нередко чрезвычайных размеров, вызывали беспокойство Министерства финансов и вмешательство в дела фондовой биржи. В большинстве случаев мероприятия правительства являлись запоздалыми. Они начинались, когда наступал биржевой кризис и спекуляция прекращалась сама собой. Репрессивные меры в России, как и в Европе, заключались в запрещении тех или иных биржевых сделок: объявлялись незаконными сделки на разность или с премиями, запрещались продажи на срок или вообще все срочные сделки. Мало имели успеха и все постановления, направленные против нежелательных, по мнению правительства, элементов. Более действенными были меры, направленные не против биржевых сделок и спекулянтов, а против причин, вызывающих спекуляцию, например в области акционерного законодательства.
Список литературы Санкт-петербургская фондовая биржа и экономический подъем России в конце XIX в
- Бовыкин, В. И. Формирование финансового капитала в России (Конец XIX в. -1908 г.)/В. И. Бовыкин. -М.: Наука, 1984. -288 с.
- Брандт, Б. Ф. Торгово-промышленный кризис в России/Б. Ф. Брандт. -СПб., 1904. -Т. 2. -С. 25.
- Вестник финансов, промышленности и торговли. -1895. -№ 53.
- Левин, И. И. Петербургская биржа в 1899-1912 гг. и дивидендные ценности/И. И. Левин//Вестник финансов, промышленности и торговли. -1914. -Т. 1. -№ 13. -С. 605.
- Новое время. -1895. -7 авг.
- Новое время. -1895. -18 сент.
- Новости. -1900. -12 мая.
- Промышленный мир. -1900. -4 июня. -№ 29.
- РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 207.
- РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 1455.
- РГИА. Ф. 583. Оп. 10. Д. 95.
- РГИА. Ф. 587. Оп. 56. Д. 296.
- РГИА. Ф. 1405. Оп. 542. Д. 1542.
- Россия и мировой бизнес: дела и судьбы. Альфред Нобель, Адольф Ротштейн, Герман Спитцер, Рудольф Дизель. -М.: РОССПЭН, 1996. -312 с.
- Судейкин, В. Т. Биржевая игра на Петербургской бирже (Ее причины и последствия)/В. Т. Судейкин//Журнал юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. -1897. -№ 10. -С. 6-30.
- Торгово-промышленная газета. -1896. -4 янв.
- Туган-Барановский, М. И. Значение биржи в современном хозяйственном строе/М. И. Туган-Барановский//Банковая энциклопедия. Т. 2. Биржа. -Киев: Банк. энцикл., 1916. -С. 2-50.
- Туган-Барановский, М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем/М. И. Туган-Барановский. -СПб.: Тип. Т-ва Общественная польза, 1907. -563 с.