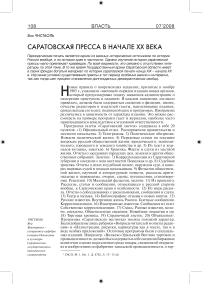Саратовская пресса в начале XX в
Автор: Чистаоль Яна Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Периодическая печать является одним из важных исюрических источников по истории России вообще, и по истории края в частности. Однако изучение истории саратовской . прессы мало привлекает краеведов. По всей видимости, это связано с отсутствием литературы по этой теме. В то же время Государственный архив Саратовской области имеет в своих фондах богатый материал по истории саратовской печати конца XIX - начала XX в. Изучение условий существования прессы в тот период особенно важно и интересно, так как тогда шел процесс становления долгожданных демократических свобод.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169248
IDR: 170169248
Текст научной статьи Саратовская пресса в начале XX в
Н овые правила о повременных изданиях, принятые в ноябре 1905 г., узаконили «явочный» порядок издания новых органов, который предусматривал подачу заявления администрации о намерении приступить к изданию. В каждом заявлении, согласно правилам, должны были содержаться сведения о фамилии, имени, отчестве редакторов и издателей газеты, наименование издания, сроках выхода его в свет, подписной цене и программах. Программы различались в зависимости от характера издания. Это можно рассмотреть на примере программ газет и журналов, наиболее часто привлекавшихся впоследствии к уголовной ответственности.
Программа газеты «Саратовский листок» содержала в себе 20 пунктов: «1) Официальный отдел. Р-аспоряжения правительства и местного начальства. 2) Телеграммы. 3) Политическое обозрение. Новости политической жизни. 4) Передовые статьи по текущим вопросам русской общественной жизни: юридического, экономического, городского и земского хозяйства и др. 5) Из газет и журналов (отзывы, заметки). 6) Хроника. Факты и слухи из местной жизни. Отчеты о заседаниях городских дум, земских и других общественных собраний. Заметки. 7) Корреспонденции из Саратовской губернии и соседних с нею местностей Поволжья и др. 8) Судебная хроника. Отчеты о делах в судебной палате, окружном суде, в камерах мировых судей и земских начальников. 9) Фельетон общественной жизни, научный и литературный: повести, рассказы оригинальные и переводные, очерки, сцены, путешествия, стихотворения. Р-ецензии. 10) Маленький фельетон, мелочи. 11) Из прошлого. Р-ассказы, статьи и сообщения, относящиеся к русской старине вообще, к Саратовскому краю в особенности. 12) Из мира раскола. Отчеты о собеседованиях с раскольниками, сообщения и слухи. 13) Театр и музыка. 14) Б-иблиография: отзывы о новых книгах. 15) Р-усские известия. Внутренняя жизнь Р-оссии. Газетные сообщения. Корреспонденции. 16) Иностранные известия. Сообщения из газет. Собственные корреспонденции. 17) Смесь: Р-азные известия, мелочи, анекдоты. Общеполезные сведения. Новейшие открытия и пр. 18) Торговая хроника. 19) Справочный листок. 20) Объявления1.
ЧИСтАОЛь Яна
Викторовна – аспирантка кафедры истории Отечества и культуры Саратовского государственного технического университета
Программа «Саратовского вестника» носила похожий характер. Б-ыли добавлены лишь рубрики «Вопросы читателей и ответы редакции» и «Иллюстрации, рисунки, карикатуры как в тексте, так и в виде особых приложений». Отличные программы были у специальных изданий. Например, «Волжско-Уральский Вестник торговли и промышленности» должен был содержать в себе сведения Б-иржевых комитетов о ценах на различного рода товары, сведения об открытиях и изобретениях по фабрично-заводской промышленности, о тор- гах, поставках и т.д. Отличались не только программы периодических изданий, но и их цена. Цена повременных изданий варьировалась от 1 р. 20 к. до 6 рублей в год для жителей Саратова, для иногородних же издание стоило дороже.
Р-азрешения на выпуск повременного издания давали всем желающим. При этом желающий издавать повременное издание должен был быть российским подданным не моложе 25 лет, обладать общей гражданской правоспособностью и не подходить под условия, указанные в статье 7 Положения о выборах в Государственную Думу. Так как большинство желающих издавать газеты были оппозиционно настроены против правительства, а значит, подвергались суду «за преступные деяния», то они не могли официально занимать место редактора или издателя периодического издания. Широко использовались подставные редакторы – издатели с репутацией политически благонадежных лиц, которые в случае преследования газеты согласились бы скрыться или отсидеть в тюрьме. Об использовании большевиками подставных редакторов в годы первой русской революции пишет О. Финько в своей статье «Подставные редакторы»1.
Об использовании подставного редактора в Саратовской губернии рапортует цари-цынскийполицмейстерсаратовскомугубер-натору 8 декабря 1906 г.: «До ноября месяца этого года, пока ответственным редактором газеты «Царицынская речь» состояла г. Милославская, муж ее г. Милославский, фактически редактировавший газету, боясь подвергнуть жену свою ответственности перед законом, еще держался; за это время газета мною была конфискована 8 раз и 10 раз г. Милославская была привлечена к ответственности за нарушение законов о цензуре и печати. С ноября месяца г. Милославский подыскал стрелочника железной дороги, Круглова, едва могущего подписать свою фамилию, коего и нанял в качестве ответственного редактора, сам же продолжая фактически редактировать газету, под видом сотрудника ее, – перестал стесняться какими бы то ни было законами и даже принимая все меры к тому, чтобы дискредитировать всякую законную власть путем распространения среди читающего населения города и уезда заведомо ложных слухов о деятельности чинов полиции, возбуждая против последних население… Кроме изложенного, я имею основание полагать, что г. Милославский находится в самых тесных сношениях с революционными элементами…»2.
Газета являлась своего рода способом выразить мнение не только корреспондента, автора статьи, но и определенной части населения. И очень часто, а в период первой русской революции 1905–1907 гг. особенно, сообщения такого рода были неугодны лицам, находящимся у власти. Так, сразу после опубликования манифеста 17 октября на существующий строй посыпались обвинения во всех бедах русского народа, то и дело появлялись призывы к перемене строя, к улучшению жизни и т.д. Очень четко ситуацию обрисовал саратовский инспектор по делам печати в своем «Отчете»: «Как только был опубликован Высочайший манифест 17 октября 1905 года о даровании населению гражданских свобод, редакторы всех Саратовских газет стали выпускать номера своих изданий без предоставления их на цензуру, основываясь исключительно на манифесте и не обращая никакого внимания на то, что укрепление и развитие провозглашенных в манифесте принципов и основ гражданских свобод (в том числе свободы печати) должно было произойти в порядке законодательном, что, с другой стороны, прежние законы о цензуре и печати продолжали действовать, как не отмененные новыми, и что, наконец, остается в полной силе Уложение о наказаниях».
Такое явление наблюдалось повсеместно, и Саратов в этом отношении не представлял собой исключения. Манифест о свободе слова (о печати в манифесте не упоминалось) редакторы и владельцы типографий поспешили истолковать в смысле полной отмены каких-либо ограничительных законов и административных распоряжений, касающихся печати. По их мнению, манифест уже установил полную свободу печати. Первое время некоторые редакции и типографии даже отказывались представлять отпечатанные произведения в цензуру, мотивируя свой отказ все той же ссылкой на дарованную Манифестом свободу печати. В это же время в Саратове появилась масса повременных изданий, вышедших в свет в обеих столицах без разрешения цензурных учреждений.
«После объявления Манифеста 17 октября периодическая пресса заявила о себе целым рядом преступных нарушений цензурного устава и законов уголовных. За время с 17 октября 1905 по 1 января 1906 года, – пишет саратовский инспектор, – уголовные преследования возбуждались в 22-х случаях. Из них 21 дело было судом прекращено за ненахождением состава преступления, а в одном случае обвиняемый был судом оправдан (редактор газеты «Поволжье», судившийся в июне месяце н.г.). Начало текущего года и в особенности первая его половина ознаменовались появлением в свете большого количества периодических изданий вредного, противоправительственного направления. Так, в гор. Саратове возникли один за другим новые органы печати: «Воля», «Волжско-Уральский вестник», «Голос Деревни», «Жизнь и школа», «Волна», «Народный листок», «Эхо», «Карандаш», «Саратовский извозчик», «Р-абочий», «Горный листок», «Саратовская газета», «Мазок», «Поволжье» и др. Все эти издания одно перед другим старались рекламировать себя резкостью суждений и крайностью политических взглядов. Постоянных подписчиков эти издания не имели и были рассчитаны исключительно на розничную продажу среди публики»1.
Уголовные преследования саратовской прессы можно разбить на несколько групп. К первой относятся обвинения в незаконном выпуске газет. Это наиболее редкая группа обвинений. Так, саратовский инспектор по делам печати своим отношением от 7 февраля 1907 г. обвинил редактора газеты «Саратовский дневник» В. К. Самсонова в том, что он выпустил номер газеты, нарушив «Временные правила о повременных изданиях». В обвинительном акте против Самсонова значилось, что «до 1 февраля 1907 года под ответственным редакторством названного Самсонова … издавалась ежедневная газета «Саратовский дневник», адрес редакции значится помеченным «Саратов, Немецкая ул., дом Онезорге». Определением Саратовской Судебной палаты от 1 февраля 1907 года в виду возбуждения против Самсонова уголовного преследования по обвинению в нарушении Временных правил о повременных изданиях, издание названной газеты было приостановлено, причем определение акта в исполнение было приведено 3 того же февраля. 6 февраля в типографии Самсонова был отпечатан и успел разойтись …№ 1 новой ежедневной газеты «Саратовский вестник», причем адрес редакции …этой газеты…так же значится «Саратов, Немецкая ул., дом Онезорге»».
В дополнении к указу от 24 ноября 1905 г., изданному 18 марта 1906 г., в статье 9 значится, что «издателю приостановленного или прекращенного в судебном порядке повременного издания воспрещается издавать, лично или через другое лицо, взамен приостановленного или прекращенного издания, какие-либо новые повременные издания, впредь до постановления, по поводу приостановленного издания, судебного приговора или до истечения указанного в приговоре срока»2.
Казалось бы, судьи действовали строго по закону. Самсонов действительно нарушил правила. Но впоследствии при анализе показаний свидетелей, проходящих по этому делу, выясняется, что и саратовский инспектор по делам печати этот самый закон нарушал: свидетель Станевич – околоточный надзиратель 1-го участка, показал, что «вечером 5 февраля в части было получено распоряжение от саратовского инспектора по делам печати, чтобы к 6 часам утра следующего дня к нему был прислан 1 № «Саратовского вестника», причем инспектором был прислан подписанный, но текстом не заполненный печатный бланк о наложении ареста на повременное издание, относительно же дальнейших распоряжений Инспектор сообщил, что они им будут отданы при получении №№ газеты утром 6 февраля. На другой день в 5 часов 20 минут ему, свидетелю, по телефону Инспектором был отдан приказ отправиться в редакцию газеты «Саратовский вестник» и конфисковать №№ готовые для напечатания, причем присланный Инспектором накануне печатный бланк о наложении ареста он, свидетель, не успел заполнить и отправился с таковым в редакцию. Явившись в редакцию, он конфисковал 4000 экземпляров №1 Вестника»3.
После сбора многочисленных справок и показаний других свидетелей Самсонов был признан невиновным. О подобного рода незаконной конфискации газет сообщает вольская газета «Волжанин»: «Самодержавное правительство думает спастись тем, что время от времени конфискует газеты, которые не угождают отживающему строю. По временным правилам о печати цензурное ведомство обязано представить судебной палате сведения о каждой конфискации; и палата утверждает или отменяет конфискацию. Но т.к. срока, в течение которого цензура обязана исполнить это, не указано (конечно, предусмотрительно!) – то газеты конфискуются без всякого закона, по личному усмот-рению…Р-едакция «XX века» жалуется, что газеты отбираются ежедневно, и она даже не может известить своих подписчиков о причине неполучения газеты…
Случаются и курьезы. По сообщению «Р-усского слова»: 8 июня (1906 г.), ночью, в типографию «Голоса» явилась полиция и объявила о конфискации еще не вышедшего номера газеты. На заявление члена редакции, что газета еще не вышла, что номер в цензурное ведомство не предоставлен, что следственно ни о какой конфискации не может быть и речи, полицейский чиновник ответил, что у него есть предписание. Р-едакция потребовала это предписание, и оказалось, что предписание о конфискации номера газеты «Голос» от 8 июня было помечено 7 июня, т.е. заблаговременно». Этот номер газеты был арестован, но вскоре уголовное преследование против редактора-издателя этой газеты было прекращено»1.
Другая группа обвинений – обвинения в написании статей антиправительственного содержания. Такие статьи считались преступными, и издания, печатающие подобного рода статьи, арестовывались. По этой статье аресты на периодические издания накладывались в каждом втором случае.
Согласно Временным правилам о повременных изданиях Отд. VIII, ст. 5, п. «в» наказывается человек, виновный «в распространении посредством повременного издания заведомо ложных сведений о деятельности правительственного управления или должностного лица, войска или воинской части сведений, возбуждающих в населении враждебное к ним отношение…»2. Как видно, рамки этой статьи довольно расплывчаты, ибо здесь не уточняется, что можно считать заведомо ложными сведениями: отражение реальной действительности, которую правительство тщательно скрывало, или же… Примером этому может служить «дело о редакторе саратовской газеты «Трудовик» Г. А-. Исупове, обвиняемом в опубликовании статьи антиправительственного содержания»3. 24 января 1907 г. саратовский инспектор по делам печати ходатайствовал о привлечении к уголовной ответственности редактора названной газеты Исупова, которому были инкриминированы три статьи, напечатанные в №3 газеты «Трудовик». За напечатание статей «Е-ще одна свобода» и «Община и закон 9 ноября» он был признан невиновным. А- вот за заметку под рубрикой «Ч-ерносотенцы и черносотенные листы» Исупову надлежит либо выплатить сумму 100 рублей, либо, при несостоятельности, – арест при тюрьме на 10 дней. В заметке Исупов «заведомо ложно приписывает Святейшему синоду анафематствование, вопреки Е-вангелию, всех недовольных настоящим правительством. «Святейший правительствующий синод, позабыв Е-вангельские заветы, – говорится в этой заметке, – придает всех анафеме, кто недоволен настоящим правительством… Святые синодальные отцы открыто вступили в защиту правительства, того самого правительства, которое принесло стране столько горя и страданий. И вот тем, кто хочет добыть стране покой и счастье, кто хочет избавить страну от всех ужасов правительства … этим людям Синод отпускает анафему»4.
Итак, на примере саратовской прессы видно, что декларированная царским Манифестом от 17 октября 1905 г. свобода слова была обставлена массой ограничений и карательных санкций. Тем не менее она позволила печатному слову, хотя и не в полный голос и недолгое время, стимулировать оппозиционные настроения в российском обществе и тем самым ускорить процесс освобождения Р-оссии от самодержавного деспотизма.