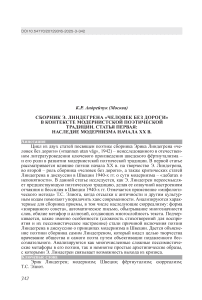Сборник Э. Линдегрена «Человек без дороги» в контексте модернистской поэтической традиции. Статья первая: Наследие модернизма начала XX в.
Автор: К.Р. Андрейчук
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цикл из двух статей посвящен поэтике сборника Эрика Линдегрена «человек без дороги» («mannen utan väg», 1942) – неисследованного в отечественном литературоведении ключевого произведения шведского фёртиутализма – и его роли в развитии модернистской поэтической традиции. В первой статье рассматривается влияние поэзии начала XX в. на творчество Э. Линдегрена, во второй – роль сборника «человек без дороги», а также критических статей Линдегрена в дискуссии в Швеции 1940-х гг. о сути модернизма – «дебатах о непонятности». В данной статье исследуется, как Э. Линдегрен переосмысляет предшествующую поэтическую традицию, делая ее созвучной настроениям отчаяния и бессилия в Швеции 1940-х гг. Отмечается применение «мифологического метода» Т.С. Элиота, когда отсылки к античности и другим культурным кодам помогают упорядочить хаос современности. Анализируются характерные для сборника приемы, в том числе наследующие сюрреализму: форма «взорванного сонета», автоматическое письмо, обыгрывание многозначности слов, обилие метафор и аллюзий, создающих многослойность текста. Подчеркивается, какие именно особенности (сложность стихотворений для восприятия и их пессимистическое настроение) стали причиной включения поэзии Линдегрена в дискуссию о принципах модернизма в Швеции. Дается объяснение поэтики сборника самим Линдегреном, который видел целью творчества врачевание общества и самого поэта путем объективации подавленного бессознательного. Анализируются как многочисленные сложные пессимистические метафоры в его поэзии, так и немногие простые архетипические образы, с которыми Э. Линдегрен связывает возможность выхода из кризиса.
Эрик Линдегрен, модернизм, Швеция, фёртиутализм, сюрреализм, Т.С. Элиот
Короткий адрес: https://sciup.org/149149403
IDR: 149149403 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-342
Текст научной статьи Сборник Э. Линдегрена «Человек без дороги» в контексте модернистской поэтической традиции. Статья первая: Наследие модернизма начала XX в.
Erik Lindegren; modernism; Sweden; fyrtiotalism; surrealism; T.S. Eliot.
К сороковым годам XX в., считающимся началом «золотого века» шведского модернизма, в Швеции уже существовала модернистская традиция. Слово «модернизм» в значении «новые веяния в искусстве и литературе» использовал еще А. Стриндберг в 1880-е гг. Поэзия 1890-х гг., так называемое девяти-десятничество, была отмечена символистской эстетикой. Десятые годы XX в. ознаменовались знакомством шведских авторов с европейскими футуризмом, экспрессионизмом, имажизмом, кубизмом. Вдохновленный этими течениями, П. Лагерквист написал в 1913 г. важнейший манифест раннего шведского модернизма «Искусство слова и искусство образа». В 1929 г. первая шведская модернистская группа «Пять молодых» под руководством А. Лундквиста опубликовала одноименный программный поэтический сборник. Модернистскими следует назвать поэтические, драматические и прозаические произведения 1910–1930-х гг. немалого количества авторов (В. Экелунд, П. Лагерквист, Я. Бергман, Э. Юнсон, Б. Щёберг, Г. Экелёф и др.), однако лишь в 1940-е гг. модернизм становится центральным объектом дискуссии в литературных и критических кругах.
Направление, сформировавшееся в эти годы, называют фёртиутализмом (от шведского слова «fyrtiotalet» – «сороковые» – и названия важнейшего журнала этих лет – «40-tal», начавшего выходить в 1944 г.). Некоторые авторы этого направления были представлены русскому читателю еще в 1960-е гг. на страницах журнала «Вопросы литературы» Е. Головиным [Головин 1966; 1968]. Фёртиутализм как целостное направление был коротко описан в «Словаре течений литературы XX века» А.А. Мацевичем, отмечавшим свойственную фёртиуталистам особую позицию недоверия, сформировавшуюся перед лицом трагических событий в мире, ее родство с французским экзистенциализмом, стремление авторов этих лет поднимать универсальные, экзистенциальные вопросы в аллегорической форме, наследственность по отношению к европейскому и шведскому предвоенному модернизму [Мацевич 2023, 571–572]. Эти же особенности фёртиутализма описывает Н.А. Пресс в диссертации, посвященной творчеству Стига Дагермана [Пресс 2008, 10–20]. Биографии крупнейших шведских фёртиуталистов были рассмотрены А. Мацевичем в словаре шведских авторов 1880-х – 1990-х гг., где также дается очерк литературной ситуации в 1940-е гг. [Мацевич 2013, 172–228]. Работы остальных отечественных скандинавистов касаются преимущественно шведской прозы 1940-х гг. [Пресс 2007; Полушкин 2008; Андрейчук 2019]. Между тем главенствующую роль в этом направлении занимала скорее поэзия, насчитывающая гораздо больше значимых фигур, чем проза. Творчество Г. Экелёфа, поэта, прожившего долгую творческую жизнь и писавшего в том числе в 1940-е гг., было рассмотрено в статье О.Г. Абрамовой и П.С. Пере [Абрамова, Пере 2016] и работе Н.А. Пресс [Пресс 2017]. Поэты же, получившие известность именно как представители фёртиутализма – Эрик Линдегрен, Карл Веннберг, Вернер Аспенстрём, а также близкие к ядру фёртиуталистов Рагнар Турси, Свен Альфонс, Эльса Граве – еще ждут своих российских исследователей. Не освещены в отечественном литературоведении и важнейшие литературные дискуссии этих лет, особенно интересные тем, что критиками обыкновенно выступали сами поэты.
Одним из таких поэтов-критиков был Эрик Линдегрен (Erik Lindegren, 1910–1968). Его сборнику «человек без дороги» (“mannen utan väg”, издан в 1942 г., написан в 1939–1940 гг.) суждено было (после переиздания в 1946 г.) стать отправной точкой для «дебатов о непонятности» (“obegriplighetsdebatten”), в которых принял участие и сам Линдегрен, – важной части дискуссии 1940-х гг. о принципах модернизма. Творчество Э. Линдегрена неоднократно попадало в поле зрения зарубежных литературоведов, особенно в 1970–1980-е гг. [Ekner 1970; Steene 1975; Bäckström 1979; Lysell 1983], однако сборник «человек без дороги» был центральной темой исследования только в диссертации А. Кул-лхеда [Cullhed 1982] и статье С. Йоранссона [Göransson 1992]. Ни в одной из этих работ сборник не был рассмотрен в контексте одновременно и предшествующей, и последующей поэтической традиции. Представляется важным, во-первых, комплексно рассмотреть роль поэтики этого сборника и критических статей Э. Линдегрена в развитии дискуссии о модернизме, а во-вторых, ввести фигуру этого крупного поэта в поле отечественного литературоведения, заполнив тем самым лакуны в изучении шведского модернизма.
Сборник «человек без дороги» стал прорывным не только для самого Лин-дегрена (до этого, в 1935 г., он опубликовал только один сборник «Посмертная юность», написанный в духе fin de siècle), но и для всей шведской литературы, оказавшись впоследствии признанным первым фёртиуталистским произведением. Линдегрену в сборнике «человек без дороги» удалось переосмыслить модернистскую традицию начала XX в. так, что она оказалась созвучной тяжелым настроениям 1940-х гг. По духу поэзия Линдегрена контрастирует с жизнеутверждающим настроем модернистов 1920-х гг., выдвигавших лозунг «культа жизни» («livsdyrkan», А. Лундквист). Сборник Линдегрена по выраженному в нем отчаянию более всего напоминает стихи Пера Лагерквиста, написанные в годы Первой мировой войны, однако отличается от них более революционной формой и несколько другим настроем. Если Лагерквист ориентирован на активный антимилитаризм, то Линдегрен передает чувство паралича, вызванное вынужденным бездействием. Дело в том, что Швеция во время Второй мировой войны оставалась нейтральной, но была вынуждена выполнять многочисленные требования нацистской Германии. Следствием такого положения оказались проблемы во внутренней политике и общественной жизни, а также самоцензура авторов литературных произведений. Национальный информационный совет с целью противодействия шпионажу проводил кампанию «en svensk tiger», в названии которой обыгрывались омонимичные словосочетания «шведский тигр» и «швед молчит». Девизом кампании были слова «Молчи о том, что знаешь, и молчи о том, чего не знаешь».
Год создания сборника «человек без дороги» обыгран в количестве стихотворений, равном сорока. Дух безысходности заявлен уже в самом названии, символичным образом лишенном заглавных букв: «человек без дороги» – не герой, а обобщенный образ человека, не имеющего возможности выбирать свою судьбу, потерянного и несчастного. Линдегрен, убежденный антифашист, остро реагировал на шведскую политику нейтралитета, ощущая себя безвольной марионеткой и приходя к выводам о предрешенности судьбы человечества в целом. В текстах сборника нет прямых указаний на современные Линдегрену события: конкретная ситуация претворяется во вневременную трагедию.
Соотнесение современности с историей становится возможно в числе прочего благодаря отсылкам к мировой литературе, знатоком которой был Линдегрен. В отличие от многих своих предшественников, шведских модернистов 1920–1930-х гг., Эрик Линдегрен, сын инженера с университетским образованием, не был самоучкой. Заинтересовавшись литературным творчеством еще в школе, он изучал философию и историю литературы в Стокгольмском университете, постоянно знакомился с литературными новинками, переводил Т.С. Элиота, Р.М. Рильке, У. Фолкнера, Д. Томаса, Сен-Жон Перса, Н. Закс, П. Валери, Г. Грина, П. Клоделя. О многих писателях, повлиявших на него, Линдегрен оставил эссе и критические статьи. По словам автора предисловия к сборнику его статей, писателя Ларса Юлленстена, из высказываний Линде-грена о других авторах можно составить его собственный литературный портрет [Lindegren 1974, 9]. Во время написания «человека без дороги» Линдегрен вместе с А. Лундквистом работал над незаконченной антологией зарубежной модернистской поэзии под рабочим названием «Шесть звёзд», которая должна быть содержать эссе о Т.С. Элиоте, Р.М. Рильке, П. Элюаре, Ф. Гарсиа Лорке, Х. Крейне, У.Х. Одене и С. Спендере и переводы из их поэзии. Линдегрен изучал творчество Т.С. Элиота, С. Спендера и У.Х. Одена, остальными занимался А. Лундквист [Cullhed 1982, 46–47].
С линдегреновским пониманием творчества У.Х. Одена связана сверхзадача сборника – излечить и пробудить подавленное общественное сознание полифоническим звучанием cложных и смелых образов. Свое понимание назначения поэта в эпоху, когда человеческая личность подавлена неотвратимостью событий, Линдегрен выразил в эссе о творчестве Одена: «Именно взгляд Одена на поэта как на врача больного общества побудил его разработать полифоническую форму для достижения максимального эффекта. <…> Важно охватить как можно большее количество людей, снять как можно больше запретов, чтобы преодолеть цензуру Супер-Эго и сделать подавленное сознательным, внеся тем самым вклад в очищение общества» [Lindegren 1974, 119].
Сборник «человек без дороги» наполнен суггестивными образами-символами. Мучение запертого в себе сознания – настроение, присущее всему сборнику, – концентрируется в символическом образе Нарцисса, появляющемся в нескольких местах, в том числе в открывающем сборник стихотворении без названия. Это стихотворение заключено в скобки и представляет собой таким образом авторскую ремарку ко всем последующим стихам. Страстное и неисполнимое желание Нарцисса слиться со своим отражением оказывало на Лин-дегрена особое воздействие в юности: в начале 1930-х он пытался использовать этот образ в нескольких незаконченных произведениях [Bäckström 1979, 35]. Однако в 1939–1940 гг., когда создается сборник «человек без дороги», Линдегрен уже относится к этому образу критически: если ранее фигура Нарцисса связывалась Линдегреном с мечтательным одиночеством, то теперь она, в соответствии с духом времени, всеобщей потерей ориентиров, символизирует «изолированное сознание» и «горький распад иллюзии себя», как объясняет сам Линдегрен в предисловии к переизданию 1946 г. [Lindegren, Vennberg 1946, 6]. Образ себя распадается на много фигур в зеркалах, и стремящийся к самопознанию лирический герой, наоборот, теряет себя:
i speglarnas sal där en blir de mycket för många och dock ville falla som dagg i tidens grav)
(«mannen utan väg», сонет I [Lindegren 1942a, 7])
в зале зеркал один становится слишком многими и всё же хочет упасть как роса в могилу времени)
(здесь и далее перевод мой – К.А. ; в переводе сохранено отсутствие знаков препинания, кроме скобок, характерное для всего сборника)
Строка «упасть, как роса, в могилу времени» предвосхищает идеи следующих стихотворений о трансформации потерявшего себя «человека без пути» в часть природы, то есть освобождении, происходящем благодаря смерти.
Если в ранней поэзии Линдегрена образ Нарцисса скорее романтический, то в сборнике «человек без дороги» фигура Нарцисса напоминает в большей степени символистскую трактовку. Скорее всего, Линдегрен был знаком с эссе «Трактат о Нарциссе (теория символа)» А. Жида (1891), в котором французский писатель обращается к мифологическим образам, в том числе образу Нарцисса, склонившемуся над рекой времени, и в этой связи обсуждает вопросы соотношения объекта и субъекта, искусства и действительности. Возвращаясь к классицистическим методам, Жид этой статьей прокладывает путь от символизма к раннему модернизму через неоклассицизм. Даже если это эссе ускользнуло от изучения Линдегреном, его идеи дошли до поэта через позднесимволистскую и модернистскую поэзию, о знакомстве Линдегрена с творчеством определенных представителей которой мы можем доподлинно утверждать, так как поэт оставил о них критические статьи. Линдегрен критически отталкивается не только от собственного юношеского романтического осмысления этой фигуры, но и от ранних образцов поэзии Стивена Спендера, несущей черты символизма. Лирического героя молодого Спендера Линде-грен в эссе, написанном в том же 1940 г., что и сборник «человек без дороги», называет «несчастным в своем нарциссизме» [Lindegren 1942b]. Другие возможные источники этого образа – поэма «Нарцисс» П. Валери, над переводом которой работал Линдегрен [Cullhed 1982, 164], и один из «Сонетов к Орфею» Р.М. Рильке (номер III из второй части), где также появляется Нарцисс в зале с зеркалами. Символике образа Орфея, в том числе у Рильке, посвящено эссе Линдегрена 1960 г. «Онемевший Орфей» («Den förstummade Orfeus») [Linde-gren 1974, 181–185].
Однако по своей трагичности строки Линдегрена напоминают скорее несколько работ о Нарциссе шведского модерниста Яльмара Гульберга (Hjalmar Gullberg, 1898–1961), в частности стихотворение «Страдающий Нарцисс» («Lidande Narkissos»), в котором лирический герой восклицает: «Лучше пусть тело лопнет, // чем я буду заперт в нем!» («Må hellre kroppen sprängas, / än jag i den skall stängas!» [Gullberg 1933, 131], призывая вихрь, который разорвет его тело и разобьет зеркало, чтобы герой мог обрести новую форму («en virvel-storm, / som slår itu mitt väsens form / och splittrar spegelns yta, / att jag gestalt må byta!» [Gullberg 1933, 131]).
Фигура Нарцисса – далеко не единственная в сборнике отсылка к мифологии. Линдегрен вдохновлялся «мифологическим методом» Т. С. Элиота, описанным англо-американским поэтом в эссе о Дж. Джойсе и определяемым им как проведение параллелей между античностью и современностью с целью понимания и упорядочивания хаоса последней. В сборнике «человек без дороги» есть отсылки к древнему Египту, древнегреческой мифологии, индийской мистике, библейским мотивам и миру древнеисландских саг, а также крупнейшим поэтам разных времен, в том числе самому Элиоту, особенно поэме «Бесплодная земля», которая также сталкивает образность мифа и литературных произведений, в первую очередь «Божественной комедии» Данте, с вопросами, вставшими перед европейской цивилизацией после Первой мировой войны.
Линдегрен вслед за Элиотом обращается к самым сильным дантовским образам, способным выразить тревогу и отчаяние военного времени:
|
i denna dimma där offren driver runt i sina cirklar där ingen vandrar blixtar ur molnen men där jag ser hur nödens skri ej lämnar ens ett stoftkorn kvar i denna djupa fåra sliten upp av alltid någons gråt («mannen utan väg», сонет XXXVI [Lindegren 1942a, 77]) |
в этом тумане где жертвы дрейфуют по кругу где никто не ходит молнии сверкают в облаках но где я вижу как крик о помощи не оставляет после себя даже пылинки в этой глубокой борозде, разрытой чьим-то плачем |
Ср. образ кружащих душ в «Аде» Данте и строки из четвертой песни: «Мы были возле пропасти, у края, // И страшный срыв гудел у наших ног, // Бесчисленные крики извергая» (пер. М. Лозинского). Элиотовские отсылки к Библии или, например, к «Гамлету» также находят отражение в сборнике Лин-дегрена, обращающегося к тем же источникам и выводящего похожие образы.
Однако если у Элиота мифологические отсылки составляют систему, то у Линдегрена они скорее подкрепляют отдельно взятые яркие и часто противоречивые метафоры, имеющие много общего с авангардистской поэзией, в первую очередь сюрреалистической. С сюрреализмом Э. Линдегрен познакомился благодаря посвященной А. Бретону, П. Элюару, С. Дали и М. Эрнсту главе в работе своего друга А. Лундквиста «Полет Икара» (Ikarus’ flykt, 1939). Сам Линдегрен позднее посвятил «параноидально-критическому методу» С. Дали несколько неизданных эссе [Cullhed 1982, 121].
С помощью насыщенных ассоциациями образов Линдегрен, зачастую опуская логические связи и используя автоматическое письмо, пытается обращаться не к конкретным предметам, а напрямую к идеям, таким как время и смерть:
|
dödgångaren höjer sin avtärda hand till en varning som glider i spin över dalen tomhetens isiga klanger piskar hans renhet insprängd med gnistrande smärta och tvivlets ljus inspärrade öknar draggar efter hans fingrar men hoppfullt sjunger mumiens fyllda kruka bakom blindhetens årsringar vajar hans utkik <...> snart skall tystnadens klo dräpa hans skugga («mannen utan väg», сонет XVI [Lindegren 1942a, 36]) |
мертвец поднимает свою иссохшую руку в предупреждении скользящем по долине ледяные звуки пустоты бьют по его чистоте пронзенной искрящейся болью и светом сомнения заточенные в тюрьму пустыни тянутся за его пальцами но надеюсь что склеп с его мумией запоет колеблется его взгляд за годовыми кольцами слепоты <...> скоро коготь тишины убьет его тень |
Влияние авангардизма очевидно и по написанию, лишенному заглавных букв и знаков препинания, и по особенностям стихосложения, а именно поэтической форме стихотворений – «взорванному сонету», состоящему из семи нерифмованных двустиший и отсылающему к схожим формам у Лоренса Даррела и Томаса Дилана.
Творчество сюрреалистов и Т.С. Элиота представляется главными источниками вдохновения Э. Линдегрена при написании сборника «человек без дороги», причем эти два источника в рецепции Линдегрена не так уж далеки друг от друга: Линдегрен видел в Элиоте поэта, который «приблизился к сюрреалистической теории поэта как медиума», транслирующего не личное, а имперсональное, используя в числе прочего автоматическое письмо. Лин-дегрен, готовивший эссе о творчестве Элиота, безусловно был знаком с его статьей «Традиция и индивидуальный талант», проповедующей имперсональ-ность поэзии. На оборотной стороне рукописи «человека без дороги» Линде-грен оставил черновик эссе об У.Х. Одене, в котором он в юнгианском духе хвалил англо-американского поэта за то, что в некоторых стихотворениях тот «не только возвращается к архаичным формам, но и транслирует память о кол- лективном опыте, сохранившемся в бессознательном» [Lindegren 1974, 122]. Позднее эссе было опубликовано в журнале «Слово и образ» («Ord och Bild»).
Все внешние приемы, форма стихотворений, отсылки к мифологии служат в сборнике Линдегрена «человек без дороги» стремлению найти в глубинах своего сознания и одновременно в исторической памяти человечества аналогии переживаемому поэтом в современности травмирующему опыту, а вместе с аналогиями – и возможности пережить апокалипсис. Слабая надежда на преодоление кризиса появляется лишь в немногих стихотворениях сборника и связывается с очень простыми архетипическими образами – влюбленными («пламя любви заставило ад погаснуть» – «kärlekens flammor som får helvetet att slockna», сонет XXVI [Lindegren 1942a, 57]), деревом, вырастающим из могилы, звездой.
Смерти иногда противопоставляется слово (с одной стороны – песня Орфея, с другой – библейский Логос) и поющая птица, романтический соловей (при том, что романтизм в целом – скорее объект пародии для Линдегрена). Впрочем, сила слова и музыки в апокалиптическом мире ослабевает:
|
ordet begår harakiri i krevadernas sken och trumpeten smakar krossat porslin och döende blod («mannen utan väg», сонет I [Lindegren 1942a, 7]) |
слово совершает харакири при виде трещин а труба на вкус как битый фарфор и запекшаяся кровь |
Соловей же, вроде бы способный «заморозить кровь» (сонет XV), чаще упоминается как отсутствующий, покинувший этот мир либо замолкший: «Жадные слёзы шелестят в пустой клетке соловья» («giriga tårar prasslar i näktergalens tomma bur» («mannen utan väg», сонет V [Lindegren 1942a, 14]).
Большинство образов «человека без дороги» сложны и пессимистичны, по-разному выражают идеи смерти, разложения, уничтожения, тревоги перед нависшей угрозой и последнего предостережения. При этом самое мучительное для личности – растворяясь в бесконечных зеркалах, вертясь, как флюгер, вокруг одного и того же, оказаться отрезанным от памяти о прошлом и мысли о будущем:
|
vindflöjelns rostande glömska skär in i vårt kött men inget hjul välver såret mot skriande himlar |
шелестящее забвение флюгера врезается в нашу плоть но ни одно колесо не донесет нашу рану до кричащих небес |
|
intet förflutet drar förbi mot vattenfallets dån inga rörelser gör ont i det alltför trånga skötet |
ничто из ушедшего не пройдет через рев водопада ни одно движение не потревожит слишком узкую матку |
|
(«mannen utan väg», сонет XIX [Lindegren 1942a, 43]) |
И всё же написание отчаянных «взорванных сонетов» – это для Линдегре-на способ избавиться от давящей тревоги. Ретроспективно он объяснял свои мотивы так: «Мой подход близок к психоаналитическому: при неустанном погружении в собственное восприятие факторов пространственно-временной среды, вызывающих тревогу, и их объективизации, негативные, пугающие аспекты теряют свою силу и, следовательно, способность завладевать человеком» [Nirje 1947].
Таким образом, сборник Эрика Линдегрена «человек без дороги» представляет собой ключевой текст шведского фёртиутализма, с учетом теории психоанализа трансформирующий модернистские традиции начала XX в., делая их созвучными настроениям вынужденного бессилия и отчаяния, господствовавшим в Швеции эпохи Второй мировой войны. Анализ поэтики сборника демонстрирует, как Линдегрен творчески переосмысливает наследие европейского модернизма – от символистской образности до сюрреалистических приемов и «мифологического метода» Т.С. Элиота. Разрушая привычные формы с помощью формы «взорванного сонета», отказа от пунктуации и заглавных букв, поэт показывает распад индивидуального сознания, запертого в зеркалах собственных иллюзий.
Мифологические и литературные аллюзии, от Нарцисса до Данте, служат не просто декоративным приемом, а становятся инструментом объективации коллективной травмы. Линдегрен трансформирует личный опыт бессилия перед лицом исторической катастрофы в универсальный метафизический кризис, где даже слово теряет силу Логоса. При этом сборник, вопреки кажущемуся пессимизму, выполняет психотерапевтическую функцию: через объективизацию хаоса автор стремится преодолеть экзистенциальный паралич.
Значение «человека без дороги» выходит за рамки литературного эксперимента. Сложная образность и форма стихов Линдегрена были отмечены современниками и явились причиной того, что стихотворения сборника стали частью дискуссии о модернизме в Швеции 1940-х гг., послужив отправной точкой «дебатов о непонятности» («obegriplighetsdebatten»). Сам Эрик Линдегрен также принимал участие в этих дебатах. Кроме того, общее настроение безнадежности, свойственное поэзии Линдегрена и некоторых его современников, стало предметом «дебатов о пессимизме» («pessimismdebatten»). Позиции Линдегрена как критика, мнениям о его ключевом сборнике других литераторов и публицистов, таких как Стен Селандер, Карл Веннберг, Алан Фагерстрём и др., и роли их дискуссии в развитии шведского модернизма будет посвящена вторая статья данного цикла («Сборник Э. Линдегрена «человек без дороги» в контексте модернистской поэтической традиции. Статья вторая: роль в дебатах о модернизме в Швеции 1940-х гг.»).
Сборник «человек без дороги» обозначил поворотный момент в шведской культуре 1940-х, когда модернизм из маргинального течения превратился в язык поколения, осмысляющего шведскую позицию нейтралитета и расширяющего границы художественной свободы. Как показано в статье, Линдегрен не только наследует традициям, но и пересобирает их в новую поэтическую систему, становящуюся вызовом молчанию и компромиссам.