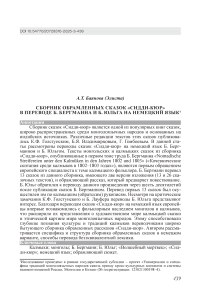Сборник обрамленных сказок «Сидди-кюр» в переводе Б. Бергманна и Б. Юльга на немецкий язык
Автор: А.Т. Баянова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Сборник сказок «Сидди-кюр» является одной из популярных книг сказок, широко распространенных среди монголоязычных народов и основанных на индийских источниках. Различные редакции текстов этих сказок публиковались К.Ф. Голстунским, Б.Я. Владимирцовым, Г. Гомбоевым. В данной статье рассмотрены переводы сказок «Сидди-кюр» на немецкий язык Б. Бергманном и Б. Юльгом. Тексты монгольских и калмыцких сказок из сборника «Сидди-кюр», опубликованные в первом томе труда Б. Бергманна «Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802–1803 годах»), являются первым обращением европейского специалиста к теме калмыцкого фольклора. Б. Бергманн перевел 13 сказок из данного сборника, имеющего две версии изложения (13 и 26 сказочных текстов), и обрамляющий рассказ, который предваряет повествование. Б. Юльг обратился к переводу данного произведения через шесть десятилетий после публикации сказок Б. Бергманном. Перевод первых 13 сказок был осуществлен им по калмыцким (ойратским) рукописям. Несмотря на критические замечания К.Ф. Голстунского и Б. Лауфера переводы Б. Юльга представляют интерес. Благодаря переводам сказок «Сидди-кюр» на немецкий язык европейцы впервые познакомились с фольклорным наследием монголов и калмыков, что расширило их представления о художественном мире калмыцкой сказки и этнической картине мира монголоязычных народов. Этому способствовали глубокие познания культуры и традиций калмыков переводчиками широко бытующего сборника обрамленных рассказов «Сидди-кюр». Автором рассматривается специфика и структура сборника обрамленных сказок в немецком варианте, способы перевода безэквивалентной лексики.
Калмыки, монголы, Б. Бергманн, Б. Юльг, «Волшебный мертвец», «Сидди-кюр», немецкий язык, обрамляющий сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/149149412
IDR: 149149412 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-439
Текст научной статьи Сборник обрамленных сказок «Сидди-кюр» в переводе Б. Бергманна и Б. Юльга на немецкий язык
Известный немецкий филолог Т. Бенфей, один из основателей сравнительной фольклористики, автор блестящего исследования «Панчатантры» [Benfey 1859], считал, что большая часть сказок, возникшая в Индии, распространилась по Европе различными путями: на юге – через народы, исповедующие ислам, буддизм же стал источником проникновения индийского фольклора на севере. Но основой европейского фольклора, его ядром были индийские сказки, которые трансформировались в соответствии с этическими потребностями и социально-политическими условиями народов, куда они проникли. Т. Бенфей считал, что калмыки и монголы сыграли большую и видную роль в распространении и передаче сказок и легенд славянским народам, а через них индийские фольклорные сюжеты проникли в европейский фольклор (цит. по: [Jülg 1866, IV]). Вместе с тем, как утверждает Б.Я. Владимирцов, «сказки и легенды индийского происхождения, проникшие в Монголию вместе с буддизмом, почти совсем уничтожили монгольскую национальную сказку, смешались с ней, отодвинули ее на задний план» [Владимирцов 2003, 105].
Одним из первых источников калмыцкого фольклора, с которым познако- мились европейцы, стал сборник калмыцких рассказов «Волшебный мертвец» («Сидди-кюр»), в основу которого легли сюжеты популярного индийского памятника «Двадцать пять рассказов Веталы» [Двадцать пять… 1939].
Впервые это произведение было опубликовано на русском языке К.Ф. Гол-стунским [Голстунский 1864] литографским способом в 1864 г. Он был, возможно, переведен им на основе записей и непосредственно рукописей на «ясном письме», собранных во время путешествия по калмыцким степям. Б.А. Бичеев утверждает, что перевод мог быть осуществлен и с трех рукописей, хранящихся и в ИВР РАН [Бичеев 2020, 156]. В этом же году лама Г. Гом-боев в «Этнографическом сборнике РГО» опубликовал «Шидди-Кур» [Гомбо-ев 1864], перевод которого известный востоковед Б.Я. Владимирцов посчитал «вольным», то есть пересказом.
Позднее еще один перевод был осуществлен Б.Я. Владимирцовым по калмыцкой (ойратской) рукописи, «приобретенной у одного ойратского князька из северо-западной Монголии» [Владимирцов 1923, 11], является полной версией «Сидди-кюр».
Немецкие переводы были впервые осуществлены Б. Бергманном в 1804 г. Позднее на немецком языке сказки дважды появились в изложении Б. Юльга [Jülg 1866; Jülg 1868].
Материалы исследования
Материалами исследования послужили собственно переводы Б. Юльга и Б. Бергманна сборника сказок «Сидди-кюр» («Волшебный мертвец») на немецком языке [Bergmann 1804; Jülg 1866; Jülg 1868].
Сказки на немецком языке в переводе Б. Бергманна
Б. Бергманн озаглавил «Ssiddi-Kür» как монгольские рассказы («Mongol-ische Erzӓhlungen») и поместил их в первом томе своего труда «Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802–1803 годах») [Bergmann 1804, 249–351]. Сборник включает 13 сказочных сюжетов из «Сидди-кюр» и вступительного рассказа, создающего рамку для остальных рассказов. Так как существуют две версии сборников (одна – из 13 рассказов, вторая – из 26), то следует отметить, что Б. Бергманн воспользовался первой версией сборника, которая широко популярна среди монголоязычных народов, хотя Ц. Дамдинсурэн и С.Д. Серебряный считают, что вторая версия является «более ранней и преимущественно литературной», в то время как сборник из 13 рассказов – более поздняя версия, подвергшаяся значительному фольклорному влиянию [Дамдинсурэн, Серебряный 1981, 138]. К сожалению, в своем труде Б. Бергманн не упоминает источник, откуда он перевел. Но зная, что он приобрел много старинных рукописей во время путешествия по Калмыцкой степи, можно предположить, что перевод сборника осуществлен с письменных источников, найденных у калмыков.
Имя главного героя Сидди-кюр Б. Бергманн переводит по-разному: Ssid-di-kür, der Todte. Во второй сказке он дает объяснение данному слову: “Das Wort Kür bedeutet in Mongolischen einen Todten, oder eine Leiche. Ssiddi wird auch Biddӓr und Ükӓdӓl genannt, was mit Kür einerlei ist” [Begmann 1804, 264].
В калмыцком языке слово күр имеет два значения ‘беседа’ и ‘труп’ [КРС 1977, 326], сидтə –‘волшебный, чудодейственный’ [КРС 1977, 452], на санс- крите siddhi означает ‘сверхъестественные силы, способность творить чудеса’. Следовательно, Сидди-кюр (Сиддиту кюр) означает ‘волшебный мертвец’. Б. Бергманн ошибается, говоря, что сидди означает то же, что и күр, то есть‘мертвец’, приводя в пример синонимы к данному слову. Ükӓdӓl (совр. калм. үкдл) означает действительно ‘мертвец’ в переводе с калмыцкого, но оно не является синонимом слову сидди (сидтə).
У Б. Бергманна нет четкой нумерации и названия рассказов, как в русском переводе Б.Я. Владимирцова. Каждый рассказ заканчивается фразой, например: “Ssiddi’s erste Sage handelt von dem Abenteuer des begüterten Jünglings” [Begmann 1804, 263], “Ssidi’s dritte Sage handelt von dem Abentheuer Massangs” [Bergmann 1804, 284] и т. д., и отделяется длинной чертой от следующего рассказа. Если эти заключительные фразы сравнить с названиями сказок в переводе Б.Я. Владимирцова, то увидим, что их содержание соответствует сказкам в русском переводе, равно, как и сказки в изложении Б. Юльга, которые также не имеют названия, но пронумерованы:
|
Владимирцов |
Bergmann |
Jülg |
|
|
обрамляющий рассказ |
7 волшебников и царевич |
без названия |
Einleitung |
|
1. |
Сын богача |
Ssidi’s erste Sage handelt von dem Abenteuer des begüterten Jünglings |
I. Erzӓhlung |
|
2. |
Царевич и его друг министр |
Ssidi’s zweite Sage handelt von dem Abenteuer des Bettlersohnes |
II. Erzӓhlung |
|
3. |
Беломордый бычок |
Ssidi’s dritte Sage handelt von dem Abenteuer des Massangs |
III.Erzӓhlung |
|
4. |
Знахарь со свиной головой |
Ssidi’sviertte Sage handelt von dem Zaubermeister mit dem Schweinkopfe |
IV. Erzӓhlung |
|
5. |
Царевичи Нара-ни-Герель и Са-рани-Герель |
Ssidi’s fünfte Sage han-delt von Sonnenschein und dessen Bruder |
V.Erzӓhlung |
|
6. |
Ловкий гордец и царь |
Ssidi’s sechste Sage han-delt von dem Wunder-mann, der den Chan über-wand |
VI.Erzӓhlung |
|
7. |
Имеющий птичью оболочку |
Ssidi’s siebente Sage han-delt von dem Vogelmann |
VII. Erzӓhlung |
|
8. |
Ананда-плотник и Ананда-живописец |
Ssidi’s achte Sage handelt von dem Mahler und Holz-künstler |
VIII. Erzӓhlung |
|
9. |
Девушка-похитительница сердца |
Ssidi’s neunte Sage han-delt von der Entwendung des Herzens |
IX. Erzӓhlung |
|
10. |
Муж и жена |
Ssidi’s zehnte Sage han-delt von dem Mann und der Frau |
X.Erzӓhlung |
|
11. |
Девушка Ал тан-Зула |
Ssidi’s elfte Sage handelt von dem MӓdchenSsuwandari |
XI. Erzӓhlung |
|
12. |
Царь Кю- кен-Седкильто |
Ssidi’szwӧlfte Sage han-delt von dem Chan Kӧbӧӧn oiuh |
XII. Erzӓhlung |
|
13. |
Сын брахмана, ставший царем |
Ssidi’s dreizehnte Sage handelt von dem Birmans-sohne |
XIII. Erzӓhlung |
Повествование Б. Бергманна сопровождается сносками, в которых даются объяснения слов, непонятных немецкому читателю (антропонимы, безэк-вивалентная лексика, реалии). К примеру, к имени главного героя Нагарджу-ны (Б. Бергманн пишет Nangasuna, у Б. Юльга – Nagarguna) дает следующее объяснение: “Es bleibt unausgemacht, wer dieser Nangasuna Garbi sei, aber ein burchanisches oder göttliches Wesen ist derselbe auf jeden Fall, weil er der zweite Lehrer, d.h. der nächste nach dem Obergott Dscagdschamuni genannt wird” [Bergmann 1804, 249].
К слову тенгрий (Tӓngeri ) Б. Бергманн дает такое толкование: “Tӓngeri sind gӧttlische Wesen von mӓnnlichen und weiblichen Geschlechte. Wir warden sie in der Folge genauer kennen lernen” [Bergmann 1804, 258].
Перевод безэквивалентной лексики Б. Бергманн передает способом транскрипции: Tschӓdkür чөткр ‘черт, дьявол, бес’ [КРС 1977, 656]; транслитерации: Baling балң ‘род жертвенных лепешек’ [КРС 1977, 80]; транскрипции + уточнения (калькирования): Gerudin (Wundervogel); уточнения (калькирования) + транслитерации: Wunderstein (Dschindamani). К некоторым словам автор дает объяснения: “Bumba ist das vornehmste Kügelchen in einem kalmükischen Ro-senkranze” [Bergmann 1804, 253] (калм. бумб ‘шарик (четок)’ [КРС 1977, 119]).
Сказки на немецком языке в переводе Б. Юльга
Сказки в переводе Юльга появились значительно позднее текста Б. Бергманна. Известны два издания сказок в переводе Б. Юльга. Первое издание «Kalmükische Mӓrchen. Die Mӓrchen des Siddhi-kür oder Erzӓhlungen eines ver-zauberten Todten» вышло в 1866 г. [Jülg 1866]. В него вошли обрамляющий рассказ и 13 сказок из «Сидди-кюр». Сам Б. Юльг высоко оценивал свою работу, считая, что сборник сказок внесет вклад в знание калмыцкого языка:
Mein Hauptzweck, dem Sprachforscher ein Hilfsmittel zum Studium des Kalmückischen zu liefern, mag es entschuldigen, wenn meine Überzet-zung etwas ungelenk und fremdartig erzcheint; sie mußte möglichst treu ein, um beim Legen des Urtextes unterstützend und fördernd an die Hand zu gehen [Jülg 1866, IV].
Упоминая перевод Б. Бергманна, он отмечает, что его текст несовершенен и не отвечает требованиям времени: “…in vielen Teilen mangelhaft ist und den heutigen Anforderungen kaum mehr genügen dürfte” [Jülg 1866, III].
На данное издание Б. Юльга профессор К.Ф. Голстунский сделал критические замечания [Голстунский 1867]. Б. Лауфер также отмечал, что издание «слишком переоценено», «текст напечатан по скверной рукописи и трактован без всякой критики», поэтому вполне обоснованы «возражения» К.Ф. Голстун-ского [Лауфер 1927, 62].
Второе издание, названное «Mongolische Mӓrchensammlung», включает в себя новые 9 сказок «Сидди-кюр» и «Истории Арджи-Борджи хана» [Jülg 1868]. В данном сборнике опубликованы сказки № 14–23, отсутствует сказка под № 16. Это издание примечательно тем, что здесь имеется непосредственно монгольский текст на «ясном письме», критические замечания («Kritische Bemerkungen») и немецкий перевод. В предисловии к книге Б. Юльг пишет, что благодаря поддержке Императорской академии наук в Вене сборник монгольских сказок увидел свет [Jülg 1868, XI]. Рукописи девяти сказок из «Сид-ди-кюр», с которых был осуществлен перевод, были предоставлены Императорской Российской академией наук, а именно Г. Гомбоевым. Большую помощь в разрешении некоторых вопросов оказал Б. Юльгу профессор О.М. Ковалевский. В предисловии к книге он отвечает и на замечания К. Голстунского, опубликовавшего критические замечания на первое издание профессора Юльга «Die Mӓrchen Siddhi-kür» [Голстунский 1867].
Б. Юльг дает объяснение слова Siddhi-kür :
Siddhi-kür heisst der mit der Siddhi (skr. Vollkommenheit, Vollen-dung, übernatürliche Macht in Folge des Zaubers, magische Zauberkraft) begabte Todte, und entspricht dem skr. Vetala, “Vetala sind vampirartige Gespenster, die von den Leichen der Verstorbenen sich nähren, auf den Lei-chenstätten ihr unheimliches Wesen treiben und namentlich in den Körpern der Hingerichteten ihre Wohnung aufschlagen; durch Zaubergewalt kann der Mensch sich einen Vetala dienstbar machen, um schwierige, menschli-che Kräfte übersteigende Abenteuer zu bestehen” [Jülg 1866, 66].
У Б. Юльга четкое разделение рассказов: Einleitung, I. Erzӓhlung, II. Er-zӓhlungи т.д. Каждый рассказ заканчивается фразой, где переводчик кратко излагает содержание, например: “Aus Siddhi-kür’s Erzӓhlungen das zweite Capitel: wie es dem Chan und dem Sohne des armen Mannes ergangen” [Jülg 1866, 16], “Aus Siddhi-kürs Erzӓhlungen das fünfte Capitel: die Geschichte von Sonnenschein und dessen jüngeren Bruder” [Jülg 1866, 36] и т.д.
Об обрамляющем сюжете
«Сидди-кюр» представляет собой сборник из 13 рассказов (сказок), имеющий строго структурированную рамочную конструкцию. В связи с этим прежде всего следует остановиться на понятии обрамленная повесть (обрамленный рассказ). По мнению П.А. Гринцера, «обрамленная повесть – это не случайное, неорганизованное соединение разного рода историй», которые подчинены определенной художественной идее [Гринцер 1963, 82]. Отдельные части обрамленной повести называются по-разному: сказки, рассказы, басни, новеллы, притчи и т.д., но все эти названия условны. Немецкий ученый
И. Хертель, исследуя обрамленные рассказы, также отмечал условность жанров произведений, входящих в сборник обрамленных рассказов:
Wenn der Titel von “Mӓrchen” spricht, so ist dieses Wort nicht in dem technischen Sinne zu fassen, den ihm die europäische Willenschaft beilegt, sondern in dem allgemeinen Sinne der erdichteten Erzählung. Die Einteilung der Erzählungen in Märchen, Schwänke, Fabeln, Novellen, Sagen, Geschichte, Mythe beruht auf der Weltanschauung der Europäer und den literarischen Formen ihres Schrifttums; für den Indier, der die Dinge, die ihn umgeben, mit völlig anderen Augen sieht als wir, hat diese Einteilung keinerlei Berechtigung [Hertel 1921, 4].
Сборник обрамленных рассказов имеет особую структуру – общую повествовательную рамку, которая объединяет все рассказы. Как жанр обрамленная повесть возникла в Индии под влиянием классических образцов индийского эпоса и буддийской повествовательной литературы.
Рамочный сюжет мы наблюдаем и в русской, европейской и восточной литературе. Например, сказка «Тысяча и одна ночь» содержит элементы обрамленной повести. Каждую ночь мудрая дочь визиря Шахрияра рассказывает увлекательную историю, которую не успевает закончить до наступления утра. По принципу рамочной структуры как «существенному проявлению идио стиля писателя» [Кузнецова 2022, 110] по строен сюжет повести «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого, «Декамерон» Боккаччо и т.д.
Обычно обрамляющий рассказ находится в начальной части повествования. В «Сидди-кюр» это рассказ о семи волшебниках и двух братьях, один из которых обучался волшебству у этих магов, но так ничему не научился. Тогда младший из братьев, тайно подглядев, «увидел разгадку чар» [Владимирцов 1958, 15]. В результате сказочных перипетий и многочисленных превращений юноша убивает волшебников. Чтобы искупить вину, герой отправляется за волшебным мертвецом на велико е Прохладное кладбище, поймав его, помещает в мешок. По дороге мертвец рассказывает различные истории, при этом юноша должен молчать. Как только он начинает разговаривать, выражать сочувствие по поводу рассказанной истории, мертвец исчезает («Ты произнес слово, несчастный царевич, теперь я не останусь в этом мире» и улетает [Владимирцов 1958, 23]). Царевич вновь возвращается к дереву, забирает мертвеца и так 13 или 26 раз, пока не доставил его к Нагарджуне.
Обрамляющий сюжет в переводе Б. Бергманна и Б. Юльга
Обрамляющий сюжет начинается с небольшого предисловия, которого нет в русском переводе Б.Я. Владимирцова. Это восхваление царя – главного героя рассказа, в «духе умеренно-изысканного стиля» (так называемый ка-вья-стиль, использовавшийся индийскими придворными поэтами) [Гринцер 1963, 19], что является характерной чертой в обрамляющих рассказах:
Verherrlischer Nangasuna Garbi! Von Aussen und von Innen bist du Strahlender, das heilige Gefӓss der Erhabenеn, der Ergründer verboge-ner Gedanken; der zweite der Lehrer. Ich verbeuge mich der dir. Was für wundervolle Dinge mir Nangasuna und dem ruhig wandelnden Chane ge- schahen und wie lehrend und leinend der Schiddzu finden sei solches ist 13 schӧnen Sagen enthüllt [Bergmann 1804, 249].
У Б. Юльга более развернутый текст, восхваляющий главного героя:
Die siegreich vollendeter Nagarguna, welchem der Name Garbha zur Erklӓrung beigegeben worden, welcher, indem er das auswendig und inwendig reine Gefӓss (der Buddha-Lehre) in seiner Wesenheit erleuch-tet hat, das Verstӓndniss der Mittellehre (madhjamika) des wahren Sinnes (paramartha) erschliesst, der zweite Lehrer, vor dem verbeuge ich mich. Eben dieses Meisters Nagarguna und des auf glücklichem und gutem Pfade wandelnden Chaneserstaunliche und wundersame Geschichte, die in der Absicht erzӓhlt ist, damit man, wenn man deren von den Weisen zusam-mengestellten Hauptinhalt nach Bedürfniss in sein Herz aufgenommen, durch Vortragen, Hӧren und Lesen die hӧchste Vollendung erlange, habe ich im Mӓrchengewande in dreizehn Capitelnnacherzӓhlt [Jülg 1866, 1].
Как видим из этих отрывков, в них используются различные лексические языковые средства выразительности, эмоционально-оценочные слова (siegreich ‘победоносный’, vollendete‘совершенный’ [Jülg 1866, 1], verherrlisch‘славный, прославленный’ [Bergmann 1804, 249]) и выражения (das heilige Gefӓss der Erhabenеn букв. ‘священный сосуд возвышенного’, wunder-volle Dinge ‘чудесные вещи (события)’ [Bergmann 1804, 249], glückliche und gute Pfade‘счастливый и благой путь’, erstaunliche und wundersame Geschichte ‘удивительная и чудесная история’ [Jülg 1866, 1]).
Подобного рода восхваление царя в стиле кавья мы видим и в «Двадцати пяти рассказах Веталы» в обрамляющем рассказе в стихах:
Там был царь по имени Викрамасена. Тот царь сверкая сотней тысяч солнц и затмевая молний блеск, среди советников своих на троне восседал;
Кандарпе равен красотой, народу, словно Хари, мил, Границам – страж, как океан, всем благомыслящим – отец… очарованием богат, трудолюбив и величав… [Двадцать пять… 1939, 43–44].
После восхваления начинается непосредственно обрамляющий рассказ. Одна из важных черт обрамления – наличие охватывающей строки, цель которой сделать плавный переход к другим рассказам, он может быть описан буквально одним предложением: “Die Veranlassung zu diesen Sagen erzӓhle ich zuerst” [Bergmann 1804, 249], “Die Veranlassung zu dieser Erzӓhlung ist folgende” [Jülg 1866, 1], “Hierauf began Schiddi mit folgenden Worten” [Bergmann 1804, 275] и т. д.
Все рассказы присоединяются к рамке «многократным повторением одной и той же ситуации» [Гринцер 1963, 34]: герои идут, дорога монотонна, волшебному мертвецу становится скучно, и он просит рассказать какую-нибудь историю (сказку). Царевич ничего не говорит ему в ответ, и тогда мертвец предлагает: «Если хочешь ты рассказать, то наклони голову, если хочешь, чтобы я говорил, подними ее». Он поднимает голову, тогда Волшебный мертвец начинает рассказывать сказку. В немецком переводе это описывается так:
Der Chanssohn steckte ihn in den Sack, schnürrte den Sack mit dem Seile fest, aß von seiner Reisekost und zog mehrere Tag emit der Last. Da sprach der Todte: “Weil uns der lange Weg lӓstig fӓllt, so erzӓhle doch du eine schӧne Sage, oder ich erzӓhle dir eine”. Der Chan antwortete nichts, sondern schüttelte bloß mit dem Kopf. Hierauf begann Ssiddi folgende Sage [Bergmann 1804, 264];
Endlich sprach Siddhi-kür (у переводчиков различное написание имени героя: Ssiddi (Bergmann), Siddhi (Jülg). – А.Б. ): “Da der Tag lang ist, so wird es uns langweilig; entweder erzӓhle du eine Geschichte, oder ich will erzӓhlen”. Allein der Chanssohn wandelte schweigend weiter. Da began Siddhi-kür von neuem: “Wenn du erzӓhlen willst, so nicke mit dem Kopf; willst du dagegen zu mir sagen ‘erzӓhle du’, so gib mir das durch eine Rückbewegung mit dem Hinterhaupt zu verstehen”. Ohne auf diese Worte erwas zu erwiedern, gab der Chan mit seinem freien Willen anheim gestellt bleibe. Da began nun Siddhi-kür folgende Erzӓhlung [Jülg 1866, 5].
Все сказки начинаются с указания точного места, где происходит действие, что придает определенную долю историчности, а это несвойственно сказочным сюжетам: “im dem Reiche Güjassmün” [Bergmann 1804, 317], “in Rei-che Obmilsong” [Bergmann 1804, 328], “in einem Lande Namens Brschiss” [Jülg 1866, 36], “in einem Lande, das den Namen Glӓnzender Blumengarten” [Jülg 1866, 39], “in einem Reiche Namens Kun-smon” [Jülg 1866, 43], “in einem grossen Rei-che”, “das Ikšvȃkuvardhana hiess” [Jülg 1866, 46].
Каждая сказка имеет свой, непохожий на другие сказки сюжет. Герои сказок тоже разные. Мы сравнили некоторых героев сказок из «Сидди-кюр» у Б.Я. Владимирцова, Б. Бергманна и Б. Юльга:
|
Владимирцов |
Bergmann |
Jülg |
|
эрлг злой дух, нечистая сила [Владимир-цов 1958, 66] |
Höllendinner (Ärlike) [Bergmann1804, 326] |
Höllenrichter [Jülg 1866, 49] |
|
Царь Герель-Юй- ледюгчи [Владимир- цов 1958, 66] |
Chan Gügülükschi [Bergmann 1804, 322] |
der Erleuchter [Jülg 1866, 46] |
|
Царь Бюкюндю-Ге-рель («Светоч для всех») [Владимирцов 1958, 62] |
Chan Günisschang [Bergmann1804, 317] |
Chan Namens Kun-snang (tib. allerleuchtend) [Jülg 1866, 43] |
|
Бюкюни-Тедкегчи («Всех защищающий») [Владимирцов 1958, 62] |
Sohn Chamuk Sakikts-chi [Bergmann1804, 317] |
Sohn Namens ChamukSsa-kiktschi (kalm. der Allschüt-zende) [Jülg 1866, 43] |
|
царь Кюкен-Седкиль-тю («С детской мыслью») [Владимирцов 1958, 78] |
Chan Kӧbӧӧn ojui (Kin-dersinn) [Bergmann 1804, 339] |
ein Chan mit dem Beinamen der mit dem Kinder-Verstand (küwӧn ojotu) [Jülg 1866, 58] |
|
человек по имени Ге-ген-Ухату («Обладающий светлым умом») [Владимирцов 1958, 78] |
ein Mann Namens Gӓgӓӓn uchatu [Bergmann 1804, 339] |
ein Mann mit dem Beinamen der mit dem hellen Verstande (gegen uchatu) [Jülg 1866, 58] |
Заключение
Многие произведения древнеиндийской литературы имели рамочную структуру, что позволяло объединять в единое цельное литературное произведение различные по содержанию сказки. Благодаря рамке в одно повествование включалось различное количество рассказов или сказок, например, в «Панча-тантра» – 5, «Двадцать пять рассказов Веталы» – 25, «Жизнь Викрамы» – 32, «Шукасаптати» – 70. Рамка служила формальным поводом для объединения, поэтому могли существовать различные версии одного и того же произведения, исходя из количества введенных в повествование сказок, как, например, «Сидди-кюр», которое имело две версии (13 и 26 сюжетов). Немецкий исследователь Б. Бергманн первым обратился к пользовавшимся широкой популярностью сказкам «Сидди-кюр» благодаря тому, что он предпринял путешествие в калмыцкие степи в начале XIX в. и впервые познакомился с рукописью этого сборника. Все остальные переводы, в том числе и на русском языке, появились через шесть и более десятилетий после появления работы Б. Бергманна [Голстунский 1864; Гомбоев 1864; Jülg 1866; Jülg 1868; Владимирцов 1923]. Переводы сказок «Сидди-кюр» на немецкий язык Б. Бергманном и Б. Юльгом имели огромное значение. Европейцы впервые познакомились с богатейшим фольклорным наследием монголов и калмыков, что расширило их представления о художественном мире калмыцкой сказки и этнической картине мира монголоязычных народов. Переводчики старались передать содержание сказочного текста максимально приближенно, что свидетельствует о глубоких познаниях языка, культуры и традиций калмыков.