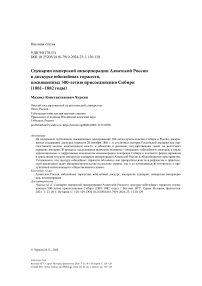Сценарии имперской инкорпорации азиатской России в дискурсе юбилейных торжеств, посвященных 300-летию присоединения Сибири (1881-1882 годы)
Автор: Чуркин М.К.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
На материалах публикаций, посвященных празднованию 300-летия присоединения Сибири к России, раскрывается содержание дискурса торжеств 26 октября 1881 г. в столичных центрах Российской империи как перспективной модели консолидации власти и общества в решении государственных задач на восточных окраинах империи. В процессе исследования выявлены основные «площадки» юбилейного дискурса, а также церемониальные и нарративные компоненты коммеморации покорения Сибири в контексте формулирования и трансляции текущих имперских сценариев инкорпорации Азиатской России в общеимперское пространство. Установлено, что дискурс юбилейных торжеств обозначил как приоритеты власти в рефлексии и практической реализации задач империостроительства на востоке страны, так и ее потенциальную готовность к продуктивной коммуникации с общественными силами.
Азиатская Россия, юбилейные торжества, юбилейный дискурс, имперские сценарии, имперская инкорпорация, коммеморации
Короткий адрес: https://sciup.org/147243118
IDR: 147243118 | УДК: 94(470.53) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-1-120-129
Текст научной статьи Сценарии имперской инкорпорации азиатской России в дискурсе юбилейных торжеств, посвященных 300-летию присоединения Сибири (1881-1882 годы)
,
,
В системе координат публичных мемориальных практик, определяемых как коммемо-рации [Хальбвакс, 2005; Ассман, 2014] и ориентированных на актуализацию знаковых исторических событий в культурной памяти общества, заметное место занимают юбилеи – массовые торжества, рубежные праздники, не только выполняющие интегративные функции, но и содержащие в себе манипулятивный ресурс, используемый властью с целью поддержания в социуме коммуникативного согласия в отношении сценариев организации политического пространства [Дмитриева и др., 2020; Шуб, 2016; Красильникова, Наумов, 2023].
В этой связи тема научно-исследовательской рефлексии юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия присоединения Сибири к России в дореволюционный период, достаточно широко освещена в отечественной историографии. Примечательно, что в исследовательских практиках последних десятилетий историки, включаясь в ситуацию «мемориального поворота» в отечественной гуманитарной науке, развернулись к проблеме раскрытия символических смыслов коммеморативных торжеств, предназначенных для «широкой артикуляции политических, экономических, социальных и культурных задач» [Кра- сильникова, Наумов, 2023, с. 82], реализуемых имперской властью на восточных окраинах, актуализации общественного интереса к Сибири и «вовлечении ее в орбиту пристального правительственного и общественного внимания» [Ремнев, 2007, с. 34], «обосновании экстренной необходимости реформ в отдаленном регионе» [Шиловский, 2013, с. 13]. Авторы публикаций в целом продемонстрировали солидарность в вопросе о выборе сроков проведения юбилейных мероприятий. Детальный разбор обстоятельств определения в дискурсе власти и общества времени празднования, предпринятый исследователями, дал им возможность утверждать, что дискуссии о точных датах и годах «сибирского взятия», шедшие в профессиональном сообществе и в общественном мнении, интонационно и содержательно являлись второстепенными, уступая место артикуляции нового «сценария власти», в котором имперская тема должна быть наполнена национальным содержанием, воплощенным в идее «народного самодержавия» [Ремнев, 2007, с. 36]. Внутриполитическая ситуация в России, сложившаяся после акта цареубийства в марте 1881 г., и обозначившаяся тенденция «охранительного» курса с восшествием на престол Александра III предполагали оперативность принятия таких идеологических решений, в которых сюжеты приобретения Сибири прозвучали бы как составляющий элемент программы единения народа и власти.
Опыт историографической рефлексии обстоятельств организации юбилейных торжеств по случаю 300-летия присоединения Сибири к России позволяет высказать ряд принципиальных замечаний, имеющих непосредственное отношение к предметному полю и области целеполагания настоящей статьи:
Во-первых, исторические события, связанные со взятием Ермаком Искера 26 октября 1581 г., рассматривались имперскими чиновниками как достаточный повод для старта юбилейной кампании в столичном формате, вполне подконтрольном власти. Составители брошюры о праздновании в Москве и Санкт-Петербурге дня 26 октября 1581 г., объясняя предъюбилейную «лихорадку» в 1881 г., констатировали, что «ожидание вступления в период трехсотлетия, не могло не выразиться заявлением общественного чувства», которое, как они утверждали, генерировалось сибиряками, живущими в столице (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 4). Для сибирского населения была предложена другая дата юбилейных торжеств – 6 декабря 1582 г., символизирующая акт принятия Сибири в русское подданство, что позволяло купировать сепаратистские настроения в условиях идеологически неустойчивой российской окраины.
Во-вторых, торжественные мероприятия, проведенные превентивно (26 октября 1881 г.) в столичных центрах империи, позиционировались в качестве «площадки» репрезентации программы империостроительства на востоке страны, приоритета центра над периферией, Сибири как окраины, а не колонии России. В этом плане показательна реакция имперского центра на эксцессы стихийного празднования сибирского юбилея в Томске, Тобольске, Иркутске и других городах Азиатской России в октябре 1881 г., косвенно зафиксированная в определении Святейшего Синода за № 1528 от 28 июля – 11 августа, в котором говорилось буквально следующее: «Имея в виду, что широкое празднование этого события отклоняется, генерал-лейтенант Анучин, в отзыве за № 876, предполагает, определив день празднования 6-го декабря, ограничиться тем, чтобы в этот день освободить присутственные места от занятий, а воспитанников учебных заведений от уроков и отслужить торжественные молебствия» (Томские епархиальные ведомости, 1882, 15 нояб., с. 617).
В-третьих, в осмыслении представителями научного сообщества торжеств 1881 г. можно встретить определение презентации 300-летия присоединения Сибири к России в качестве неудачного символического акта локальной исторической политики, поскольку набор нарративов, адресованных локальному сообществу, вызвал заинтересованность лишь небольшого числа людей (областники, региональные деловые элиты и часть чиновничества [Чернышов, 2023, с. 176]. Вряд ли можно согласиться с подобным тезисом, учитывая, что в 1880-х гг. в общественно-политическом и властном дискурсе кардинальным образом меняются представления об Азиатской России как имперской окраине, формируются основы переселен- ческой политики, актуализируется функция и роль крестьянства как главного субъекта освоения восточной периферии, что развивалось на фоне эскалации переселенческого движения и неизбежно приводило к расширению круга лиц (в том числе чиновничества), ответственных за организацию колонизационного дела. В данном отношении имперский нарратив, отраженный в юбилейных текстах, рассматривался как модель программных установок, общее руководство по реализации практических задач инкорпорации Сибири в общеимперское пространство.
Отталкиваясь от вышеозначенных размышлений, мы обозначаем цель статьи как раскрытие содержания дискурса торжеств 26 октября 1881 г. в столичных центрах Российской им -перии, репрезентируемого в материалах празднования юбилея как перспективной программы консолидации власти и общества в решении государственных задач на восточных окраинах империи.
В качестве основного источника исследования в работе использована брошюра, изданная в начале 1882 г. по итогам празднования в Санкт-Петербурге и Москве 300-летия присоединения Сибири к России (Празднование в Петербурге и Москве., 1882), на страницах которой были обозначены не только основные «площадки», каналы и способы трансляции проблемных вопросов инкорпорации азиатских территорий в состав России, но ив программном ключе определены векторы имперской политики в отношении восточных окраин, сформулированы алгоритмы консолидации власти и общества в обсуждении на властном и общественном уровне наиболее острых сибирских вопросов. Как вспомогательные источники к исследованию были привлечены материалы региональной периодической печати светского и церковного происхождения, использование которых предполагало выявление моделей реагирования местных сообществ на предлагаемый центром формат празднования 300-летие «сибирского взятия» и готовность воспринимать и транслировать разработанный властью имперский нарратив единения народа и самодержавия.
Методологически решение задач статьи реализуется в рамках новой культурно-интеллектуальной истории и ситуации лингвистического поворота рубежа ХХ-ХХ1 вв., предполагающей, по утверждению Х. Уайта, способность исследователя вслушиваться в дискурс, потому что история говорит языком текста [Уайт, 2002, с. 87]. В данном плане текстовые репрезентации празднования 300-летнего юбилея присоединения Сибири к России образуют единое дискурсивное пространство конструирования в российском обществе представлений о восточных окраинах и способах их ментального освоения во второй половине XIX - начале XX в.
Обращение к структурной композиции брошюры, посвященной описанию ситуации празднования в Санкт-Петербурге и Москве 300-летнего юбилея присоединения Сибири к России, позволяет согласиться с тезисом А. В. Ремнева: «в имперском сценарии сибирского юбилея превалировало не только утверждение заслуг России перед Сибирью, но и стремление увязать стихийное народное движение на восток с геополитическим обоснованием имперской “географии власти”» [Ремнев, 2007, с. 42].
В преамбуле редакционным коллективом предельно четко маркировались основные доводы в пользу необходимости проведения юбилейных торжеств.
Формулируя необходимость сбора и систематизации материалов, посвященных празднованию в Петербурге и Москве юбилейной даты присоединения Сибири к России, авторы -составители презентовали свою брошюру «как исторический памятник, прямо относящийся. к характеристике общественного отношения к событию» (Празднование в Петербурге и Москве..., 1882, с. 4).
Подчеркивалось, что главным инициатором организации сибирского юбилея выступили местные уроженцы (сибиряки), увидевшие в предстоящих торжествах способ презентации и «продвижения» отдаленной окраины в российском обществе: «Тот интерес и то внимание, которое возникло в сибирских городах к юбилею, показывает, что сибирское общество на- чало более внимательно относиться к своей исторической жизни и исполнено некоторого сознания» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 3).
Значимым для составителей изначально являлся вопрос о дате проведения юбилея, что репрезентируется ими в противопоставлении двух событий – взятия Искера (26 октября 1581 г.) и донесения о нем московскому государю (1582 г.). Проблема датировки не случайно оказалась в центре внимания авторов, поскольку вписывалась в дискурс движущих сил завоевания Сибири, имела большое политическое значение и рассматривалась представителями интеллигенции, в том числе национальной, как способ манифестации либеральных взглядов на процесс инкорпорации окраин в общеимперское пространство (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 3).
Наконец, возможность проведения юбилейных мероприятий рассматривалась авторами брошюры в качестве «площадки» коммуникации и консолидации региональных (сибирских) общественных сил: «He имея возможности устроить празднование пышное и торжественное, уроженцы Сибири, в Петербурге и Москве, решили собраться на обед и провести этот день вместе, обменявшись чувствами и мыслями. Так как многие сибиряки в столицах не были знакомы между собой, собрать их частными извещениями было бы трудно…» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 4).
В тексте брошюры достаточно отчетливо прослеживаются два коммеморативных компонента: церемониальный и нарративный. Так, церемониальный компонент репрезентации Азиатской России в юбилейной брошюре включает описание атмосферного фона праздничного обеда в Петербурге, посвященного 300-летию присоединения Сибири. Составители, подчеркнув в преамбуле обширность восточной окраины империи, сочли адекватным упомянуть о массовости, статусности и торжественности мероприятия, в котором приняло участие более 200 чел.: «Среди присутствующих виднелись генералы, профессора, доктора, студенты, уроженцы Сибири, учащиеся девицы, курсистки и дамы, которым Сибирь была близка по воспоминаниям. В обеде участвовали почти все члены комитета Общества Содействия промышленности и торговле» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 5). Символическая значимость юбилейного мероприятия оттенялась особым антуражем: «Большая зала была освещена электрическим светом. На сцене, убранной растениями, левая сторона которой состояла из елей и сосен, покрытых снегом, спускался большой электрический фонарь в виде солнца, освещая золотой венок на спущенной занавеси с надписью «26 октября 1581–1881 г.»» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 5). Церемониальным апофеозом торжественного обеда стало специальное сибирское меню, в котором «из отличительных блюд были… сибирские пельмени (по обыкновению в супе), рябчики с салатом из северных ягод и мороженое из облепихи» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 5).
Нарративный компонент юбилея составлен из застольных речей непосредственных участников обеда. В петербургской и московской части программы составители выделили соответственно 11 и 5 выступлений, в которых были предметно освещены ключевые темы колонизационного вопроса в связи с историческими обстоятельствами и современными задачами инкорпорации восточных окраин в состав империи.
Одной из значимых в выступлениях ораторов являлась тема Сибири как колонии / внутренней окраины Российской империи. Так, распорядитель торжественного обеда в Санкт-Петербурге тайный советник Б. А. Милютин в своей речи, весьма характерной для общественно-политического дискурса 1880-х гг., высказал мысль о том, что с момента своего включения в состав России до 20-х гг. ХIХ в. Сибирь воспринималась как неотъемлемая часть общегосударственного пространства, однако с начала реформ М. М. Сперанского отдаленный регион стал котироваться в качестве колонии России, что проявилось в формах особого административного устройства и особых практиках управления в отношении окраинных территорий (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 6). О недопустимости представлений о Сибири как отдельной стране говорил на банкете и Г. Грацианский: «Си- бирь – окраина по преимуществу русская, не имеющая преобладающего чуждого элемента. Все прошедшее Сибири русское, и хотя мы празднуем трехсотлетие, но по праву Сибирь должна считаться ровесницей России» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 14). Данные тезисы Б. А. Милютина и Г. Грацианского о Сибири как неотделимой части России и ее естественно-географическом и ментальном продолжении, исключавшие любые проявления регионального сепаратизма, оказались существенно скорректированы в речах других видных сибиряков. В частности, председатель совета Покровского приходского попечительства К. П. Мейбаум подчеркнул, что многие сибиряки, в детстве вывезенные в Европейскую Россию, «лишены возможности служить своей родине» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 12). В этой связи, по словам оратора, цель обеда заключается «не в праздновании присоединения Сибири к России, а в объединении сибиряков в интересах развития края в промышленном, торговом и образовательном отношениях» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 12–13).
Несмотря на имевшиеся разногласия относительно статуса Сибири, большинство докладчиков сошлись во мнении о необходимости проведения гражданских реформ в крае, в том числе и в аспекте организации земских учреждений и судопроизводства аналогичного российскому (Н. М. Ядринцев, К. П. Мейбаум, Г. Шреер и др.) (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 13).
Центральное место в юбилейном дискурсе было отведено составителями национальному (инородческому) вопросу в Сибири, который тесно корреспондировал с другими значимыми сюжетами региональной действительности восточных окраин: переселенческим делом и просвещением. Общий дискуссионный тон был задан в речи ротмистра лейб-гвардии атаманского полка Гази Валиханова. Выскажем предположение, что Г. Валиханов, будучи одним из авторов юбилейной брошюры, вполне обоснованно счел возможным и даже необходимым включить свои соображения в текст, выражая не только свою точку зрения, но и общую позицию казахской интеллигенции относительно колонизационного процесса и алгоритмов решения национального вопроса в связи с переселенческим движением и административной политикой империи на восточных окраинах страны. Основной пафос его речи заключался в «великом значении объединения, необходимого между киргизами (казахами) и другими сибирскими племенами с народностью русской» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 8). В своем выступлении Г. Валиханов косвенно затронул тему имперского оцентро-вывания отдаленной окраины посредством железнодорожного строительства и соединения таким образом европейской и азиатской частей России, тем самым дав понять, что железная дорога со временем сотрет препятствия для межэтнической и межкультурной коммуникации всех групп и слоев населения Сибири (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 8). Речь Г. Валиханова с призывом к объединению индигенных народов с русскими далеко не однозначно была воспринята в «застольном» сообществе, в том числе среди так называемых «охранителей», отстаивавших принцип «Россия для русских». Так, земский врач П. Н. Прохоров в благих целях защиты и продвижения просвещения высказывался в имперском тоне: «Мы, русские, на Востоке… являемся распространителями христианской цивилизации между инородцами…» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 9). Стоит обратить внимание, что национал-консервативные мотивы в банкетных речах присутствовали повсеместно, что наглядно демонстрировало ориенталистский и социал-дарвинистский взгляд российского общества на национальный вопрос в контексте решения колонизационных задач. Вот лишь некоторые часто используемые риторические обороты в речах ораторов: «великое русское дело», «все прошедшее Сибири русское» и т. д. (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 14–17).
Соображения Г. Валиханова о межкультурном взаимодействии и этническом сближении стимулировали не только шовинистические эскапады, но и понимание важности для распространения в азиатской части империи просветительских идей и ценностей образования. Наиболее наглядно данное настроение транслировалось в речах, в которых авторы отмечали решающую роль в преодолении сибирского абсентеизма таких учреждений, как Западно-Сибирское отделение Императорского Русского географического общества (П. П. Семенов), сибирского университета (Н. М. Ядринцев). Симптоматично, что если в ходе петербургского банкета упоминание университета носило эпизодический характер, то в рамках аналогичного собрания в Москве этому учреждению было посвящено полностью несколько речей (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 21–23).
Отдельным сюжетом, включенным авторами в текст материалов о юбилейных торжествах, стал вопрос о Сибири как месте ссылки, что, по мнению многих ораторов, прямо и косвенно способствовало распространению в регионе таких пагубных явлений, как административный произвол и ограничение всех категорий населения в правах и свободах. Инициатором темы ссылки и каторги на торжественном обеде выступил Г. Фойницкий, заявивший в своей речи об отрицательном в нравственном влиянии этой меры на сибирское общество (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 11). В данной связи Г. Грацианский заметил, что взгляд на Сибирь и восточные окраины со стороны государства подобен представлению об этих землях как о неприятельской, только что покоренной стране со своими особыми законами (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 14).
В более широком контексте тема соприкосновения ссылки и административного произвола получила развитие в московской части торжеств в речи русского купца, писателя и общественного деятеля Н. М. Чукмалдина, заявившего следующее: «Наше русское общество во весь трехсотлетний период существования Сибири ошибочно думало, что Сибирь только “золотое дно” и делало историческую ошибку, ссылая туда массу преступников и мало обращая внимания на личные качества административного персонала, управлявшего Сибирью» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 19).
Следует отметить, что авторы материалов, в частности Г. Валиханов, понимая ограниченность возможностей в рамках небольшой брошюры представить весь спектр мнений и тематических блоков, посвященных реакции российского и сибирского общества на юбилейное событие, использовали специальные журналистские приемы, направленные на формирование представлений читателя о значимости события.
Так, в описании торжественного обеда включена фраза, призванная подчеркнуть масштабность действия: «Долго не вставало из-за стола собравшееся общество; один за другим провозглашались различные тосты, и дружно поднимались бокалы во имя лучших надежд и стремлений громадной страны…» (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 22). Такой прием позволил авторам обозначить ряд важных проблем, не озвученных в ходе основной части заседания, но проговариваемых в отдельных тостах: за улучшение положения женщин в Сибири, за здоровье путешественников (исследователей) и тех, кто в дальний путь отправлялся вынужденно (переселенцев), за скорейшее осуществление проектов железной дороги, за школьных и гимназических учителей (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 22–23).
Не менее значимым представляется и стремление авторов рельефно обозначить заинтересованность в юбилейных торжествах и озабоченность сибирской тематикой максимально широкой аудитории, не участвовавшей по разным обстоятельствам в праздновании. Решить эту проблему удалось посредством публикации кратких поздравительных телеграмм и перепечатки фрагментов заметок, статей, фельетонов, присланных редакционными коллективами периодических изданий («Сибирь», «Сибирская газета», «Русские ведомости», «Московский телеграф», «Неделя», «Правительственный вестник» и др.); высказываний частных лица, чья деятельность была тесно связана с регионом (Д. И. Менделеев, В. А. Арцимович, М. И. Ве-нюков, Е. В. Богданович и др.); приветствий от городских общин (Хабаровск, Тюмень, Кяхта, Троицкосавск, Енисейск, Москва) (Празднование в Петербурге и Москве…, 1882, с. 15–35).
Анализ содержания дискурса празднования 300-летия присоединения Сибири к России 26 октября 1881 г. на столичных «площадках» позволяет сделать ряд предварительных выво- дов. Прежде всего обращает на себя внимание церемониальный сценарий юбилейных тор -жесте, призванный подчеркнуть особую значимость Санкт-Петербурга как центра принятия решений и формулирования программных положений, репрезентирующих представления имперской власти о важнейших задачах государственной политики, в частности в колонизационной сфере. Прерогативы столицы империи были продемонстрированы в контрастности проведения юбилейных мероприятий в Санкт-Петербурге и Москве. В последней устроителям удалось собрать незначительное число участников (90 чел.), преимущественно сибиряков. По словам составителей брошюры, обед в Москве носил совершенно частный ха -рактер: «...на колонах в зале были прибиты две небольшие старинные гравюры, изображающие Ивана Грозного и Ермака, окруженных лавровыми венками. На хорах играл оркестр Рябова» (Празднование в Петербурге и Москве., 1882, с. 18). Еще более разительными являются различия, с точки зрения внешних эффектов, в организации церемониальной части юбилейных мероприятий в центре империи и сибирских городах, в которых власти ограни -чились молебнами, литургиями, скромными обедами с малым количеством присутствующих (Томские епархиальные ведомости, 1882, 15 нояб., с. 618; 15 дек., с. 704).
Вместе с тем дискурс юбилейных торжеств, в нарративном его исполнении, продемонстрировал определенную пластичность власти в репрезентациях имперских сценариев инкорпорации Азиатской России. И здесь складывалась довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, внутриполитическая обстановка, сложившаяся в России к началу 1880-х гг., располагала к купированию реформ, разворачиванию «охранительного» курса и реализации имперских практик доминирования и принуждения по отношению к подданным, как в центре, так и на окраинах страны. С другой стороны, национал-консервативные проекты колонизации окраин империи, активно обсуждаемые и насаждаемые в первые пореформенные де -сятилетия (распространение дворянского землевладения, русификация коренных народов), показали свою полную несостоятельность в связи с эскалацией переселенческого движения второй половины XIX в. Жестко расправившись с проявлениями сепаратизма и ограничив общественную активность сибирской интеллигенции в «вегетарианскую» эпоху либеральных реформ, в ситуации их свертывания власть обратилась к разработке моделей такого варианта коммуникации с представителями региональной общественности, который усилил бы эффективность продвижения и реализации имперских планов на востоке страны. Таким образом, дискурс празднования 300-летия присоединения Сибири к России, проиллюстрировал не только сервильность регионального социума и готовность к исполнению решений централь -ной власти, но и расположенность имперских сил к коллаборации с обществом, что наглядно проявилось в обсуждении и формулировании программного нарратива включения азиатских территорий в состав империи, фиксировавшего первостепенную значимость соединения европейской и азиатской частей России железнодорожным путем, гибких алгоритмов урегулирования инородческого вопроса, снижения удельного веса ссылки как инструмента колонизации, выведения переселенческого дела на правительственный уровень.
Список литературы Сценарии имперской инкорпорации азиатской России в дискурсе юбилейных торжеств, посвященных 300-летию присоединения Сибири (1881-1882 годы)
- Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2014. 328 с.
- Дмитриева О. О., Иванова Т. Н., Минеева Е. К. Исторические юбилеи как церемониальная коммеморативная практика (сравнительный анализ празднования 1000-летия Российской государственности, 100-летия Отечественной войны 1812 года и 300-летия царствования дома Романовых в Российской империи) // Диалог со временем. 2020. № 72. С. 280-291. EDN: IUXEMW
- Красильникова Е. И., Наумов С. С. Празднование трехсотлетних юбилеев сибирских городов как отражение государственной и региональной политики памяти (1904-2016 гг.) // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2023. № 82. С. 81-88. EDN: FYOELZ
- Ремнев А. В. 300-летие присоединения Сибири к России: в ожидании "нового исторического периода" // Культурологические исследования в Сибири. 2007. № 1. С. 34-50. EDN: KGDOES
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 528 с.
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html (дата обращения 03.06.2023).
- Чернышов С. А. Празднование 300-летия присоединения Сибири к России в Красноярске и Иркутске: неудавшийся акт локальной исторической политики // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1. С. 168-178. EDN: HHESIF
- Шиловский М. В. Празднование "сибирского дня" в дореволюционный период // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 2. С. 12-15. EDN: QJBOBD
- Шуб М. Л. Современные коммеморативные практики: образовательный и воспитательный потенциал // Челябинский гуманитарий. 2016. № 3 (36). С. 80-87. EDN: WWJVYB