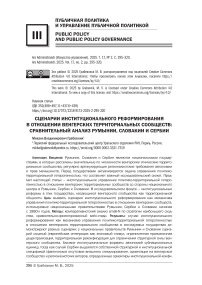Сценарии институционального реформирования в отношении венгерских территориальных сообществ: сравнительный анализ Румынии, Словакии и Сербии
Автор: Михаил Владимирович Грабевник
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Публичная политика и управление публичной политикой
Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: Румыния, Словакия и Сербия являются национальными государствами, в которых расселены значительные по численности венгерские этнические территориальные сообщества, регулярно артикулирующие регионалистские требования автономии и прав меньшинств. Перед государствами актуализируется задача управления политикотерриториальной гетерогенностью, что составляет важный исследовательский сюжет. Предмет настоящей статьи – институциональное управление политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерских территориальных сообществ со стороны национального центра в Румынии, Сербии и Словакии. В исследовательском фокусе – институциональные реформы в этих государствах, касающиеся венгерского сообщества как территориальной общности. Цель: выявить сценарии институционального реформирования как механизма управления политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерских сообществ, используемые национальными правительствами Румынии, Сербии и Словакии начиная с 1990-х годов. Методы: компаративистский анализ small-N по стратегии наибольшего сходства, сравнительно-ориентированный кейс-стади. Результаты: случаи институционального реформирования как механизма управления политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерского территориального сообщества в исследуемых государствах демонстрируют разные сценарии: у национальных правительств Румынии и Словакии сценарий сходный (европейская интеграция как значимый стимул, ограниченная прагматичная децентрализация, территориальная реконфигурация для ограничения структурной силы венгерского сообщества, близкие институциональные форматы автономий субнациональных единиц), тогда как случай Сербии выделяется собственной структурной и институциональной спецификой (фактическое отсутствие внешнего стимулирования, ориентация на венгерское сообщество и регионалистских акторов, определенные ориентиры институциональной конфигурации автономии). Выводы: исследуемые сценарии институционального реформирования являются механизмами управления политико-территориальной гетерогенностью в Румынии, Словакии и Сербии и способствуют нивелированию угроз территориальной целостности.
Венгерские сообщества, институциональные реформы, территориальная целостность, политико-территориальная гетерогенность, автономия, регионализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147250694
IDR: 147250694 | УДК: 352(498+497.11+437.6+439) | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-2-295-320
Текст научной статьи Сценарии институционального реформирования в отношении венгерских территориальных сообществ: сравнительный анализ Румынии, Словакии и Сербии
Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите
This work © 2025 by Grabevnik, M. V. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit
Среди национальных государств Центральной и Восточной Европы Венгрия в прошлом веке потеряла наибольшую площадь исторической территории, что привело к формированию крупных территориальных сообществ венгерских этнических меньшинств в соседних политиях – Румынии, Сербии и Словакии (Snyder, 2022, p. 316–317). Относительно высокий уровень политико-территориальной гетерогенности в этих государствах актуализирует вопросы обеспечения и защиты прав этнических меньшинств, эффективной политической коммуникации с регионалистскими политическими силами и общественно-политическими организациями, а также функционирования институциональной системы управления территориальным разнообразием в целом. И хотя уровень конфликтности в отношениях национальных правительств и венгерских этнических сообществ в первой четверти XXI века незначителен на фоне остальных балканских и восточно-европейских государств (Sambanis et al., 2017), задача управления политико-территориальной гетерогенностью в Румынии, Словакии и Сербии составляет важный исследовательский сюжет.
Предметом настоящей статьи выступает институциональное управление политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерских территориальных сообществ со стороны национального центра в Румынии, Сербии и Словакии. В исследовательском фокусе – институциональные реформы в этих государствах, касающиеся венгерского сообщества как территориальной общности. Исследовательская оптика предполагает рассмотрение институциональных реформ в качестве одного из механизмов подобного территориального управления, учитывая иные механизмы (подавление, кооптацию элит, игнорирование и др.) как значимые контекстуальные. Ключевым исследовательским вопросом в настоящей работе выступает следующий: какие сценарии институционального реформирования как механизма управления политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерских сообществ используют национальные правительства Румынии, Сербии и Словакии начиная с 1990-х годов?
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблема регулирования и управления политико-территориальным разнообразием, снижения потенциала сепаратизма и регионализма приобретает дополнительную актуальность в контексте трансформации устойчивых национальных государств и конструирования новых территориальных политий. Поскольку в современном мире доминируют комплексные и сложносоставные государства, обеспечение территориальной целостности и противодействие центробежным тенденциям является одной из приоритетных их задач. Научная значимость изучения институционального управления политикотерриториальной гетерогенностью определяется прежде всего отсутствием консенсуса в академической дискуссии относительно эффективных институциональных механизмов и конфигураций такого управления.
Отмеченное в настоящей статье предметное поле – управление политикотерриториальной гетерогенностью и политико-территориальными конфликтами – насыщено исследованиями российских и зарубежных авторов, рассматривающих проблему с вариативных ракурсов. Наиболее важный блок исследовательской литературы посвящен проблемам сепаратизма и регионализма в современном мире. Сепаратистские и регионалистские движения в качественной и сравнительной логиках проанализированы в трудах Н. В. Борисовой, И. М. Бусыгиной, Е. Ю. Мелешкиной, П. В. Осколкова, П. В. Панова, И. Л. Прохоренко, К. А. Сулимова, А. И. Тэвдой-Бурмули, Р. Ф. Туровского, С. М. Хенкина и др. Среди зарубежных исследователей в данной области, безусловно, необходимо назвать К. Дешавьера, М. Китинга, Э. Маззетти. Отдельным направлением является изучение регионалистских партий, особенно в пространстве современной Европы. Здесь стоит отметить вклад зарубежных авторов Д. Бранкати, Л. Де Винтера, Э. Маззетти, Э. Хэпберн, А. Шекеля, А. Элиаса, а среди российских – М. В. Грабевника, М. В. Исобчук, П. В. Осколкова, П. В. Панова, К. А. Сулимова. Значительный пласт академической литературы также посвящен политизации этничности и этническому фактору в политико-территориальных конфликтах. Большинство территориальных конфликтов тесным образом соприкасается с этнической составляющей, а наиболее острые конфликты возникают там, где на территориальную идентичность накладывается этническая. Подобным сюжетам этнополитической и политико-территориальной конфликтности посвящены исследования В. А. Ачкасова, Д. Горовица, Т. Гура, В. В. Лапкина, В. И. Пан-тина, И. С. Семененко, В. А. Тишкова и др.
Между тем, учитывая высокую значимость этнического фактора, в том числе и в случае венгерских территориальных сообществ, автор настоящего исследования обращает свой взгляд строго на институциональные механизмы управления политико-территориальными рисками. Институциональным моделям и механизмам управления политико-территориальной гетерогенностью в современных политиях посвящен ряд исследований (в частности, А. Лейпхарта, Л.-Э. Седермана), которые указывают на определенную взаимосвязь феноменов: институциональная политика децентрализации и расширения автономии субнациональных единиц снижает угрозы и риски политико-территориальной целостности и вероятность (и интенсивность) политико-территориальных конфликтов. Представленное в этой ста- тье исследование продолжает разработку данного предметного поля и являет собой попытку дополнить мозаичную картину конфигураций и моделей институционального управления политико-территориальной гетерогенностью в современных государствах.
В соответствии с теоретическимиоснованиями необходимо зафиксировать исследовательский дизайн . Для управления политико-территориальным разнообразием и снижения этнополитической конфликтности в границах государства национальными правительствами используются вариативные стратегии и инструменты: вооруженный конфликт, игнорирование регионалистских требований, сегрегация сообществ и их изоляция, кооптация регионалистских и этнических элит в правительственные и парламентские структуры, соглашения и договоры различного характера, референдумы и плебисциты. Наиболее распространенный сегодня политико-административный инструмент в данной области – институциональные реформы, которые государства проводят, чтобы снизить или полностью нивелировать риски регионализации, сепаратизма и сецессии, а также возникновения или эскалации центр-региональных конфликтов (Панов, 2023, с. 90). Такие институциональные реформы могут выражаться в уступках регионам со стороны центральной власти и предоставлении им некоторой степени региональной автономии, но также и во введении вполне значительных институциональных ограничений, отнимающих у регионов институциональные возможности и преференции или снижающих их объем. Таким образом, можно утверждать, что институциональные реформы как инструменты управления политико-территориальной гетерогенностью могут характеризоваться вариативным репертуаром. Исследовательская идея заключается в том, чтобы проследить динамику и обозначить сценарии институциональных реформ по управлению политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерских сообществ со стороны национальных правительств Румынии, Словакии и Сербии.
Ключевым аналитическим методом выступил сравнительноориентированный анализ нескольких случаев (small-N). Исследование построено в качественной логике. В основе отбора – стратегия максимального сходства: в странах Восточной Европы были отобраны кейсы венгерских меньшинств, которые (1) являются крупнейшими в структурном плане меньшинствами, (2) обладают единым kin-state, (3) обладают похожей историей (феномен венгерского империализма и идея «Великой Венгрии»), (4) имеют единые этнические и лингвистические характеристики. До недавнего времени значительное венгерское меньшинство наблюдалось на востоке Украины, однако оно исключено из аналитического рассмотрения ввиду резкого снижения его численности по причине интенсификации миграции в Венгрию и отсутствия значимыхинституциональных реформ в отношении этнических венгров. Для выполнения задачи были изучены институциональные реформы в Румынии, Словакии и Сербии, касающиеся непосредственно венгерских территориальных сообществ, проживающих в национальных границах. На основе поиска в официальных информационных системах национальных законодательств были отобраны 16 нормативных правовых актов национального уровня, институционально закрепляющих политико-административное положение венгерского сообщества (четыре реформы – Румыния, восемь – Словакия, 299
четыре – Сербия). Хронологические рамки ограничены и обусловлены периодом независимости представленных национальных государств: 1990–2024 годы для Румынии, 1993–2024 годы для Словакии, 1992–2024 годы для Сербии.
Институциональные реформы проанализированы в сравнительноориентированной логике по следующим параметрам: содержание реформы, инициатор реформы, характер реформы по отношению к венгерскому сообществу, адресат реформы, степень имплементации реформы. Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Таблица 1 / Table 1
Параметры сравнения институциональных реформ / Parameters of institutional reforms comparison
|
Параметр сравнения |
Вопрос параметра |
Кодировка параметра |
Характеристика |
|
Содержание реформы |
Каково содержание реформы? |
Территориальная реформа |
Изменение территориальной организации |
|
Реформа органов власти |
Изменение системы органов региональной и муниципальной власти |
||
|
Политико административная реформа |
Изменение полномочий и компетенций в центр-региональном измерении |
||
|
Политикокультурная реформа |
Изменение полномочий в области культуры, языка, идентичности |
||
|
Инициатор реформы |
Кто является инициатором реформы? |
Проактивная реформа |
Национальное правительство |
|
Реактивная реформа |
Этнотерриториальное сообщество |
||
|
Характер реформы |
На что ориентирована реформа – на уступки или ограничения? |
Уступки |
Уступки требованиям этнотерриториального сообщества |
|
Ограничения |
Ограничения в отношении этнотерриториаль-ного сообщества |
||
|
Адресат реформы |
Кто является адресатом реформы? |
Универсальная реформа |
Все этнотерриториаль-ные сообщества |
|
Специальная реформа |
Конкретное венгерское сообщество |
||
|
Степень имплементации реформы |
Реализована ли реформа в полной мере? |
Полная имплементация |
Реформа реализована и имплементирована в полной мере |
|
Частичная имплементация |
Реформа реализована и имплементирована частично либо отменена |
Источник: составлено автором.
Сравнительные параметры сформулированы исходя из теоретических посылок институционалистов А. Лейпхарта и Л.-Э. Седермана, а также на основе базы данных Self-Determination Movements (Sambanis et al., 2017) и позволяют оценить не только содержание институциональных реформ, но и конфигурации стратегий акторов в центр-региональном взаимодействии: проактивная реформа или реактивная, уступки в отношении территориального сообщества или ограничения, универсальная реформа или ориентированная на конкретный регион. Большое значение в управлении политикотерриториальной гетерогенностью также имеет последовательность/логика институциональных реформ в кросс-темпоральной перспективе – именно в этом ключе употребляется концепт сценариев институциональных реформ.
Основными источниками в рамках настоящего исследования выступили нормативно-правовые акты Румынии1, Словакии2 и Сербии3, затрагивающие конфигурации центр-региональных взаимодействий и распределение полномочий, административно-территориальное деление в отношении субнациональных единиц. В целях фиксации степени автономии субнациональных территорий и уровня интенсивности этнополитической конфликтности в государствах были использованы дополнительные источники – материалы баз данных Regional Authority Index (Shair-Rosenfield et al., 2021), Self-Determination Movements (Sambanis et al., 2017) и Conflict Barometer4. Для фиксации регионалистских требований политико-партийных акторов, представляющих венгерские сообщества, использовались материалы базы данных программы политических партий Manifesto Project (Lehmann et al., 2023).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамика институциональных реформ
Республика Румыния. Первой крупной институциональной реформой в Румынии в отношении управления политико-территориальной гетерогенностью стал закон о региональном развитии 1998 года5. В Румынии установили новый административно-территориальный уровень – регионы экономического развития (regiuni de dezvoltare), каждый из которых состоит из четырех-шести субнациональных единиц – жудетов и реализует функционал посредством консультативного совета регионального развития, состоя- щего из представителей локальных властных органов, президентов и национальных префектов жудетов. Компетенции таких регионов носят скорее деконцентрированный (нежели децентрализованный) характер, поскольку право принятия окончательных решений зафиксировано за исполнительным органом национального уровня – Национальным советом развития. Агентства регионального развития, присутствующие во всех восьми экономических регионах, фактически встроены в вертикаль исполнительной власти национального уровня и финансируются централизованно (Dragoman, 2011, p. 653). Институционализация регионов явилась, по сути, проактивным шагом со стороны румынского правительства для подготовки государства к европейской интеграции: такие регионы были необходимы для участия в структурных программах Европейского союза и сбора региональной статистики по поручению европейских институтов (Dobre, 2008, p. 592). По мнению экспертов, политическая элита Румынии в целом расценила подобную реформу как уступку со стороны национального центра регионам и как часть более общих политических и социально-экономических реформ в направлении европейской интеграции, укрепления демократического режима и повышения благосостояния граждан (Dragoman and Gheorghita, 2016, p. 283). Однако в структурном плане территориальная реформа повлекла разделение венгерскогосообществамеждуразнымиадминистративно-территориальными единицами, что ослабило его позиции.
Продолжением поступательного институционального реформирования на пути к европейской интеграции стал закон о государственном управлении 2001 года6. Закон предусматривает установление языковых прав в сфере государственного управления для меньшинств, которые составляют не менее одной пятой населения субнациональной единицы, муниципальной территории или населенного пункта, и предполагает предоставление государственных услуг, издание и публикацию копий государственных документов на языке меньшинства. Муниципальные администрации жудетов, в соответствии с законом, обязаны обеспечивать установку знаков с названиями населенных пунктов и государственных учреждений в них, а также общественно значимых объявлений на двух языках там, где языковое меньшинство составляет не менее 20 %. Уже в 2003 году были дополнительно внесены поправки в Конституцию Румынии7, которые зафиксировали право на использование языков меньшинств в государственных судебных органах на всех административных уровнях, а также на официальное представительство меньшинств в национальном парламенте как минимум одним депутатом. Утверждение языковых прав для меньшинств в рамках государственного управления явилось непосредственным выполнением требований для вступления в Европейский союз (Dragoman and Gheorghita, 2016, p. 279) и следствием необходимости соблюдения стандартов и рекомендаций, устанавливаемых Европейской комис- сией за демократию через право (Венецианской комиссией Совета Европы)8 и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств9.
В таком контексте в 2000-е годы в Румынии получил развитие венгерский регионализм, главным агентом которого выступает партия «Демократический союз венгров Румынии». Регионалисты лоббируют высокую степень автономии для венгерского сообщества и артикулируют требование создания отдельного автономного региона (энтитета) для этнических венгров на территории бывшей Трансильвании – Секлерленда. В 2004 году депутаты-регионалисты представили в румынский парламент статут такого автономного региона, который, однако, был заблокирован общенациональными партийными силами. В ответ на это Демократический союз венгров Румынии подготовил проект институционализации нового региона экономического развития посредством объединения жудетов Харгита, Ковасна и Муреш, где доминирующее положение занимают этнические венгры. Несмотря на все усилия,процессдецентрализациидлявенгерскогосообществаненашелотклика у национального правительства Румынии (Bakk and Szasz, 2010, p. 25–28).
В ответ на радикальные регионалистские требования в середине 2000-х и первой половине 2010-х годов в Румынии было предпринято несколько попыток децентрализации и передачи политико-административных компетенций на субнациональный уровень (фактически на уровень муниципалитетов-жудетов). В 2004 году принят рамочный закон о децентрализации10, направленный на предоставление большей свободы и автономии судьям муниципального уровня (в том числе в отношении права использования языков национальных меньшинств в судопроизводстве), а также автономии муниципальным советам (решения которых, тем не менее, остаются подконтрольными национальным префектам регионов). В 2013 году был принят закон о децентрализации, предполагавший делегирование жудетам компетенций в сфере сельского хозяйства, окружающей среды и природопользования, здравоохранения, высшего образования, транспортной политики, культурной и молодежной политики. Необходимо отметить, что имплементация актов о децентрализации в Румынии либо фрагментирована (как в случае с законом 2004 года), либо полностью прекращена (как в случае с законом 2013 года). В 2014-м Конституционный суд Румынии отменил закон о децентрализации, поскольку счел невозможным предоставление автономии субнациональным территориям по причине нарушения конституционного унитарного характера румынской политии (Mihailescu, 2017, p. 88–89).
Последней крупной реформой, напрямую затронувшей интересы венгерских региональных сообществ Румынии, стал закон 2015 года об изменениях в избирательной системе11. Нормативный акт ввел пропорциональную электоральную систему взамен мажоритарной системы относительного большинства, использовавшейся на выборах 2008 и 2012 годов. Проведение электоральной реформы, как считается, способствовало более справедливой репрезентации этнических меньшинств в жудетах Румынии и более справедливому формированию локальных органов власти и явилось уступкой требованиям венгерских регионалистов, в первую очередь Демократического союза венгров в Румынии и Венгерской народной партии Трансильвании (Mihailescu, 2017, p. 88). Экспертами также отмечается, что на изменение избирательной системы в Румынии повлияла неоднократная публикация рекомендаций и отчетов Венецианской комиссии – в частности, в 2009 и 2014 годах (Raducanu, 2013, p. 48–50).
На протяжении последних десятилетий существенных изменений в институциональном балансе центр-региональных отношений венгерского сообщества и национального центра республики не наблюдается. Между тем в публичной и политической повестке современной Румынии регулярно артикулируются требования венгерских регионалистских сил о создании автономного региона и нивелировании института префекта, который фактически ограничивает политико-административную свободу на местах (Гра-бевник, 2022, с. 35). Институциональные реформы периода евроинтеграции также подвергаются критике и переосмыслению как фасадные и неэффективные. Показательная иллюстрация указанного тренда – актуализация дискуссий вокруг языковой реформы 2001 года12.
Республика Словакия. Институциональные реформы в управлении политико-территориальной гетерогенностью в Словакии проходили прежде всего в 1990–2000-е годы. В динамике институциональных изменений выделяются несколько периодов, связанных с идеологической ориентацией разных национальных правительств, особенно в отношении этнического венгерского меньшинства и его статуса в национальных границах.
С 1993 по 1998 год национальное правительство Словакии, формируемое доминирующей политической силой «Народная партия – Движение за демократическую Словакию», и президент Словакии В. Мечьяр открыто продвигали националистическую повестку и настаивали на институциональной дискриминации венгерского сообщества. Подобные политические ориентации нашли выражение в реформах середины 1990-х годов. В 1995 году был принят закон о государственном языке, ограничивающий изучение венгерского языка в образовательных учреждениях на территории Словакии13. Имплементация закона сопровождалась квотированием по этническому признаку в культурных и образовательных институциях и продвижением политики «словакиза-ции» общего образования (Баринов и Пантин, 2016, с. 22–23).
Административно-территориальное деление Словакии тоже подверглось трансформации. С 1993 года было установлено 38 окресов (регионов), которые представляли субнациональный административный уровень и в полномочия которых входил контроль за здравоохранением и образованием, окружающей средой и экологической политикой, а также пожарной безопасностью территорий. В рамках реформ 1996 года было создано 8 новых краев-регионов (kraje) и 79 новых окресов (okres)14, а на региональный уровень переданы компетенции национальных агентств15. При этом национальное правительство фактически обладало правом вето на региональное законодательство, что подчеркивало ограниченный формат такой политико-административной децентрализации. Что же касается территориальной реформы, то ее критики отмечают, что подобное административное деление Словакии – это случай откровенной институциональной махинации, в результате которой во всех восьми регионах этнические венгры ныне находятся в меньшинстве (Баринов и Пантин, 2016, с. 25)16.
Централистские и националистические тенденции в управлении политико-территориальной гетерогенностью в этот период привели к актуализации регионалистских настроений со стороны венгерского сообщества. В 1996 году Партия венгерской коалиции Словакии выступила с требованием о создании повята (региона) Комарно с венгерским большинством (одноименная территориальная единица существовала до 1918 года). Предлагаемая административно-территориальная единица должна была охватить большую частью южной Словакии (практически в границах полигона расселения этнических венгров) (Harris, 2007, p. 50). Во второй половине 1990-х годов появились обособленные регионалистские политические партии, представлявшие интересы венгерского сообщества, в связи с введением ограничений на электоральные коалиции (в которые ранее венгерские представители чаще всего включались) и электорального барьера (Everett and Redzic, 2021, p. 166). Волна венгерского регионализма в Словакии 1990-х годов нашла продолжение в коалиционных правительственных взаимодействиях Партии венгерской коалиции на национальном и региональном уровнях (в частности, в Нитранском крае) уже в 2000-е годы.
В период c 1998 по 2001 год, после создания центристского демократического коалиционного правительства во главе с партией «Словац- кий демократический и христианский союз – Демократическая партия», в институциональном реформировании наблюдаются обратные тенденции, что связано прежде всего с интенциями Словакии к европейской интеграции. Вместо институциональной дискриминации венгерского сообщества проводится серия реформ, нацеленных на удовлетворение требований защиты национальных меньшинств и политико-территориальной децентрализации. В 1999 году принимается новый закон о языках меньшинств, предусматривающий право муниципальных территорий, не менее 15 % населения которых говорит на языке меньшинства, использовать данный язык в официальных коммуникациях с органами государственной власти17.
В 2001 году национальный парламент Словакии одобрил план децентрализации, в рамках которой предполагалось отменить введенное в 1990-е годы право вето на региональное законодательство, а также установить 20 субнациональных регионов с политико-административными уступками венгерскому сообществу (этот план лоббировался, в частности, венгерскими регионалистами – Партией венгерской коалиции) (Marasova and Horehajova, 2017, p. 446). Новая конфигурация регионального деления не была установлена по результатам правительственных и парламентских дебатов, но идея децентрализации нашла институциональное выражение в пакете реформ 2001 года18. Несмотря на то, что количество краев (субнациональных единиц) и их границы не изменились, институциональные реформы коснулись распределения полномочий и компетенций (Klimovsky, 2010, p. 237). Были установлены региональные советы (региональные легислатуры), избираемые на прямых выборах населением, а также институт краевых председателей, назначаемых и контролируемых национальным правительством Словакии. Подобная дуальная политическая система управления регионами (назначаемая центральным правительством администрация и выборные органы законодательной власти регионов) балансировалась посредством зависимости продуцируемого регионального законодательства от одобрения национального правительства (и проверки на предмет соответствия национальным интересам Словакии и интересам проживающих на ее территории этнических и лингвистических меньшинств). В зону компетенции исключительно регионов вошло региональное социально-экономическое развитие и межрегиональное сотрудничество. При этом регионы обрели право совместной компетенции в таких областях, как образование и здравоохранение, библиотеки и театры, культурная и спортивная политика, социальное обеспечение, транспортное и дорожное управление. В рамках имплемен- тации данного пакета реформ децентрализации в Словакии края получили небольшие полномочия в финансовой сфере: в 2005 году у них появилось право устанавливать ставку налога на регистрацию транспорта19. В 2015 году, однако, данное право было нивелировано, а взамен национальное правительство повысило долю сборов от подоходного налога, передаваемую в региональные бюджеты, – с 23,5 до 30 % (Mihаlik et al., 2019, p. 100).
После вступления Словакии в Европейский союз была инициирована новая реформа в отношении государственного языка, имевшая ограничительный характер в отношении языков меньшинств. Закон 2009 года вводил формальные ограничения на использование языков меньшинств в государственном управлении20. Так, в муниципальных территориях, где менее 20 % населения говорит на языке меньшинства, вводилось обязательное требование использования словацкого языка в качестве единственного государственного. Правило распространялось не только на сферу предоставления государственных услуг (как было в 1995 году), но и на сферы торговли, здравоохранения, религиозного просвещения. Новый закон о языке вызвал активные протесты со стороны венгерского сообщества (наиболее значимыми стали манифестации около 10 тыс. этнических венгров на стадионе «Дунайска Стреда»)21 и спровоцировал внутриполитические дискуссии и предметные международные переговоры, в первую очередь с Венгрией. Правительство, пришедшее к власти после национальных парламентских выборов 2010 года, отменило закон 2009 года, имплементацию которого сегодня можно считать несосто-явшейся. После подобной резонансной реформы, послужившей катализатором роста напряженности между словацким национальным правительством и территориальными сообществами венгров в первой половине 2010-х годов, в Словакии более не наблюдалось крупных институциональных преобразований, касающихся вопросов управления политико-территориальной гетерогенностью.
Республика Сербия. Случай управления политико-территориальной гетерогенностью посредством институционального реформирования в Республике Сербия существенно отличается от румынского и словацкого случаев, и причин тому несколько. Во-первых, Республика Сербия характеризуется целым рядом структурно насыщенных этнополитических и территориальных конфликтов (Косово, Метохия, Воеводина, Черногория, Прешево и др.), в которые вовлечены несколько этнических и лингвистических сообществ (а не только этнические венгры, как в Словакии и Румынии). Во-вторых, более значимыми конфликтами, угрожающими территориальной целост- ности Сербии, стали Косово и Черногория, тогда как венгерская (условно) Воеводина, напротив, являет собой относительно устойчивый случай центр-регионального взаимодействия. В-третьих, вызовы управления венгерским сообществом в границах сербского государства – это наследство асимметричной политико-административной системы Социалистической Федеративной Республики Югославия, где Воеводина обладала автономным территориальным статусом. На рубеже 1980–90-х годов регион потерял политико-административную автономию, что зафиксировала Конституция 1990 года, а в 1991-м сербский язык законодательно стал единственным официальным государственным языком, что ограничило уже культурную автономию этнических венгров (Борисова, 2024, с. 122).
На фоне потери автономии в 1990-е годы проявились регионалистские тенденции со стороны этнических венгров Воеводины. Возникшие регионалистские партии – Альянс воеводинских венгров, Гражданский союз венгров и др. – начали открыто проводить параллели между Воеводиной и Косово, лоббировать интересы венгерского сообщества по возвращению автономного статуса региону, декламировать требования языковых и культурных прав для этнического меньшинства. В 1995 году регионалистские группы во главе с Альянсом воеводинских венгров опубликовали Манифест Воеводины22, цель которого заключалась в юридическом обосновании права на самоопределение и закреплении прав политико-административной и культурной территориальной автономии.
Утверждение сербской национальной государственности и институциональные ограничения в отношении венгерского меньшинства в период 1990-х сменились уступками со стороны национального центра Сербии в отношении региона Воеводины. В 2002 году был принят закон, согласно которому Воеводина восстановила автономный статус в ряде зон компетенции, в том числе в экономических и культурных вопросах23. В частности, статус венгерского языка как официального (Petsinis, 2008, p. 272–273). В том же году был принят закон о национальных меньшинствах, утвердивший институт советов этнических меньшинств Сербии, ключевой функционал которого составили вопросы защиты прав этнических и лингвистических сообществ, вопросы образовательной и культурной политики24. Кроме того, национальные меньшинства получили право использовать собственный язык в пределах локальных и муниципальных территорий, где их доля среди проживающего населения была не менее 15 % (практика использования родного языка включала и организацию образования на нем) (Борисова, 2020, с. 45). В 2006 году новая Конституция Республики Сербия зафиксировала автономный статус Воеводины и укрепила компетенции региона в части экономической ответственности. Указанные институциональные реформы, расширившие политико-административную автономию Воеводины, являются реактивными в отношении требований венгерского регионалистского сообщества и в ряде случаев (за исключением языковых вопросов) специализированными, то есть ориентированным именно на регион проживания этнических венгров.
В 2009 году Народная Скупщина Республики Сербии принимает новый закон о национальных и этнических меньшинствах, расширяя компетенцию советов этнических меньшинств25. На основании закона в ноябре того же года сербский парламент ратифицирует устав автономного края Воеводина, который был разработан еще в 2008-м26. Конституционный документ Воеводины вступил в силу с 2010 года и установил высокую степень автономии региона, близкой по содержанию к автономии 1980–90-х годов: пространственное планирование и территориальное развитие, сельское хозяйство, животноводство и рыбный промысел, управление водными и лесными ресурсами, туризм и гостиничный сектор, экология и охрана окружающей среды, здравоохранение, образовательная и культурная политика, социальная защита и социальное обеспечение, промышленность и энергетика.
После восстановления автономного статуса Воеводины также можно зафиксировать отдельные регионалистские всплески со стороны этнических венгров. Следует, однако, отметить, что подобные всплески случаются эпизодически и не носят системного характера. Новая итерация требований сепаратизма и ирредентизма в контексте идеи «Великой Венгрии» проявилась на рубеже 2000–2010-х годов27. В противовес этому сербские националисты первой половины 2010-х годов активно выступали против продолжающейся децентрализации в Республике Сербия. На сегодняшний день реформа 2009 года, зафиксировавшая институциональный статус-кво, является последней крупной реформой в отношении управления политико-территориальной гетерогенностью, затрагивающей интересы венгерского сообщества (Tolvaisis, 2012, p. 63).
Сценарии институциональных изменений
Во всех рассматриваемых случаях очевидна сходная динамика управления в отношении венгерских меньшинств и территорий, на которых они проживают: в 1990-е годы наблюдается устойчивый тренд на ограничение компетенций и автономии регионов с венгерским меньшинством и политики протекционизма со стороны национального центра, а затем, в 2000-е, обратный тренд на институциональное закрепление прав этнических меньшинств и предоставление политико-административных преференций территориям венгерских (в ряде случае не только венгерских) меньшинств. Уже в 2010–20-е годы становится устойчивой ситуация, когда национальные правительства рассматриваемых государств не проводят значимых институциональных реформ в отношении венгерских территориальных сообществ, а попытки введения ограничений, как в случае Словакии, оказываются безуспешными. Вместе с тем этот «общий» институциональный путь в управлении венгерскими территориальными сообществами Румыния, Словакия и Сербия проходят в разных условиях и контекстах. Используя качественную сравнительную логику, обозначенную в начале статьи, можно определить вариативность сценариев институциональных изменений. Формальные результаты зафиксированы в таблице 2.
В случае Румынии наблюдается строгая и поступательная логика институционального реформирования в направлении расширения прав и компетенций этнотерриториальных сообществ. Национальные правительства Румынии, вне зависимости от политико-идеологической принадлежности, склонны проводить универсальные реформы, ориентированные на все сообщества и административно-территориальные единицы, не рассматривая отдельно венгерские территориальные сообщества. Вводимые институциональные изменения по большей части имплементируются полностью, за исключением кейсов непоследовательной децентрализации 2004 и 2013 годов. Регионы Румынии не получили широкой степени автономии, поскольку за национальным центром остается право итогового решения в отношении регионального законодательства, а к имплементации закона о языковой политике остаются вопросы28. Качественные региональные реформы регулярно обсуждаются в Румынии, но очень немногие обсуждения действительно доходят до решений – в связи с опасениями националистически ориентированных сил, что усиление региональной власти может активизировать регионализм и привести к сепаратизму или ирредентизму (Profiroiu et al., 2017, p. 366, 383). Прагматичная логика такой частичной децентрализации закономерна: вводимые институциональные изменения были обусловлены прежде всего требованиями европейской интеграции, что свидетельствует о наличии в данном случае признаков мягкого принудительного институционального изоморфизма (в логике институционального изомофорфизма П. Димаджио и У. Пауэлла) (DiMaggio and Powell, 1983).
Институциональное реформирование в отношении политикотерриториальной гетерогенности в Словакии было не столь равномерно и размеренно, как в румынском случае. В 1990-е годы наблюдаются проактивные реформы, инициированные национальным правительством и направленные на ограничение автономии и компетенций венгерских сообществ: административно-территориальная реконфигурация, ограничения прав языковых меньшинств, ограничения в культурной и образовательной сферах. После смены правящей коалиции в Словакии возникает тренд, сходный с румынским: требования европейской интеграции ориентируют национальные правительства проводить обратные реформы, предоставляя венгерским меньшинствам культурные, языковые и политико-административные права.
Таблица
|
1 £ Я о. и Я и * |
S |
3 к я о С |
3 К я о С |
я св К Я св F |
§ К Я О С |
я Я Я и |
3 к я о С |
§ к я о С |
к Я О С |
|
2 Он о ^ U < |
я св К л я св S |
я св К л я св и я |
Я св К л я св и Я |
я св К л я св и Я |
я св К л я св
и Я S |
я св К л я св и Я |
я я к л я я
и S |
||
|
* и Й 0 X U |
и щ о |
я и д о |
и д о |
||||||
|
S |
я св К Я S <3 О U С |
я св К Я S св и |
я св К Я S св О и С |
я св К Я S св О и С |
я св я S св о и с |
я св к я S св о и с |
я я я S я и с |
||
|
Он о ^ U 4) S в св К О О |
св ^ Н ■ф й Ui И £ я £ св Ян я S Ян U ° и^ Н и |
U ~ ф 5 U R Я я я И к о Р- Я >• св я и ° св 7 S S о 5 -^ я 77 О св К S |
S св Я я я о к св и о св и о ^ и |
S св Я я я о к св и о св и о ^ и |
и 6 s o' о -®4 К и |
св ^ Н ■ф Й Ui И 5 Й £ я £ я S о ^ Я S Ян и ° и^ Н и |
св ■ф Й Ui И £ я £ я S о Ян Я S Ян и ° и^ Н и |
||
|
Он о ^ U 4) S в ев а я S S св К |
св св -Я 00 75 cd с £ о и ^
Й * св U "св я С <и О |
'я и н ^ 12 Й е ИЗ св LT) .—< СЧ О & S 3 .2 |
и и & 2 i' св 7 о з и >я" <“Ч у а о 1—1 св —в |
и св U .^Н ин <и я 00 2 3 Й 6 <и ПО U св 2 о 2 ^ 0- ° и >« ^ & 2 g 1—i св —в |
5 ио N Св Я сл ^ я ДО 7^ Ян Св N ^ о ’57 г5 » |
а < 'Св до и Я Uh Я 57 N О 'Я со Я я N о ю ^ Ян гч о> сч Я -н |
я '57 Я 5 "ЁН ел О § Й<0 a 2 Й 6 Й о й 2 О >Ч-Й N й СЧ >сл Я |
|
i £ Я о. и Я и * |
3 к я о С |
§ К Я О С |
о С |
§ Д Я О С |
Я я д я я F |
я S Ю U О о |
§ д я о С |
я о С |
|
2 Он о ^ U < |
я св К л я св Д |
я Ct К Я Я Ct и Я |
я ct Д Я я ct и Я |
я ct Д Я я ct и Я |
я я д я я я
U |
я я д я я я и |
я я д я я я U я |
|
|
* и Й 0 X U |
5 * U д о |
§ 8ч |
||||||
|
S |
я св К Я Д U |
я Ct К Я Д ct и |
я ct Д Я Д ct и |
я ct Д Я Д ct и |
я я д я д я U с |
я я д я д я U |
я я я д я U |
|
|
Он о ^ U 4) S в св К О О |
U н ф 5 я U R к Я к о ^ я ^ Ct Я U ° св 7 S О S о 5 -^ я 77 О ct К S |
я ct К _ я Д н Q Св ct U Я Н ct S « U ct ° А Я S Я s a s Ogo ’Ф1 я ’ф
О |
я ct Д я Д я Q Ct ct U Я Н ct S U ct ° А Я S Я s a s и н и ОДО ^ ^ ^
О |
я ct Д Д я Q Ct ct U Я Н ct S U ct ° А я S я 2^2 и Н и ОДО ^ ^ ^
О |
д U 6 s о1 К и |
U д о н •^ U я 5 д я о § § н а й
ЙЧ й О йч Е -&1 Н Д U |
д U ¥ 6 s o' К и |
|
|
Он о ^ U 4) S в ев а я S S св К |
> О О"' N <—< Ct 777 ЧЙ Д >Й О из N о ХГ Д 00 'Я ■—< Д |
-О о § g Л О * ^ 1 о и 2 й л -2 Ct Д X n s g 8 s i ГП 'Й Рч |
9 и пд В? ’’О ’Д ООО о я Й ^ А ° о rH > У я -± и д о § 2 о Я w U ГД |
-Д \Я ^ С 5 д 2 6 N П О '3 л 3 g? >е & ° ^ й'^ 3 о S * « Й S N "§ -g ^ ■t а й м |
^ ^ "1 о ^ и N 2 •“ '^ ^ >• in ■-..&§ й « 2 Я д й йч^ а S о « л й S -и Jn ^ ;й й о _ П. 9 ’а -а «О й ^ л Й g м ^NSo«g>' « S —, й N а 2 N^ 3 t * § 2 о S - ^ о ^ СП nJ <и о U Я N |
.-< <и N g Я Д <и й1 'S' "2 ^§
> N < й |
ГД 1 о я о д п 1s w ' t я Д и .А 2 >с/э г я Д ^ Й N о |
|
1 £ Я о. и Я в 5 и * |
3 к я о С |
3 к о С |
|
2 Он о ^ U < |
я св К л я св |
я ct К л я ct и |
|
л 0 X U |
s' 2 н s й р t д >■ о |
|
|
S |
я св К Я S <3 О U С |
я ct К Я S ct u |
|
Он о ^ U 4) S в св К О О |
О ^ U к U 6 S я О ct С S |
ct Я U S •^ 2. U s я о § § пай л к 2 u, g -&<
Н К U |
|
Он о ^ U 4) S в ев а я S S св К |
• о> Ян Я 5 ’я4 >И О ct С ^ N и |
.-< <и ct ^
Я з S' о я о J о £ 5 N < Х2 |
На рубеже веков организуются уже реактивные реформы, соответствующие стандартам Европейского союза и Совета Европы, что свидетельствует о наличии мягкого принудительного изоморфизма со стороны внешних акторов, а также требованиям венгерских регионалистских сил, в том числе политических партий. Несмотря на то, что формально реформы были универсальными, фактически по структурным параметрам, например по доле меньшинства в составе населения, они были ориентированы на венгерские территориальные сообщества. В 2010-е годы попытки изменить институциональный статус-кво в Словакии в отношении венгерских сообществ остаются безуспешными из-за парламентских дебатов, общественно-политических протестов, фрагментированной имплементации отдельных законов.
Случай Сербии выделяется как количеством институциональных изменений, так и отсутствием прямых признаков влияния на такие изменения внешних акторов (и, соответственно, институционального изомо-форфизма). Ввиду специфики политико-территориальной гетерогенности в республике и асимметричности ее административно-территориальной модели, среди институциональных реформ наблюдаются как универсальные, так и специальные, ориентированные конкретно на регион Воеводины. Реформы являются преимущественно реактивными: национальный центр отзывается на требования регионалистских партийных сил Воеводины восстановить политико-административную автономию югославских времен. Вводимые институциональные изменения имплементируются полностью. Несмотря на то, что дискуссии по дальнейшей децентрализации как в Сербии в целом, так и в Воеводине в частности продолжаются в 2010–20-е годы, сербское национальное правительство, так же как словацкое и румынское, предпочитает сохранять институциональный статус-кво, а также использовать иные средства управления политико-территориальной гетерогенностью помимо институциональных реформ.
Важно также отметить, что многие из рассмотренных реформ второй половины 1990–2000-х годов в качестве результата имеют расширение региональной автономии, притом в весьма похожей конфигурации. Так, регионы Румынии и Словакии, согласно индексу Regional Authority Index, в ходе реформ расширили свои полномочия самоуправления (self-rule) до 8 из 12 баллов. Институциональные конфигурации самоуправления регионов Румынии и Словакии практически идентичны, различаясь лишь степенью автономии в фискальной и бюджетной политике (Shair-Rosenfield et al., 2021). Сербская Воеводина по итогам реформирования тоже соответствует уровню автономии в 8 из 12 баллов (без автономии в бюджетной и фискальной политике, но с большей политической репрезентацией и более широким спектром региональных компетенций по сравнению со словацкими и румынскими регионами), а кроме того, приобретает степень автономии в совместном управлении (shared-rule) – 4,5 балла (Shair-Rosenfield et al., 2021).
Таким образом, можно утверждать, что кейсы институционального реформирования в отношении венгерского сообщества Румынии и Словакии похожи (если оставить за скобками период словацкого национализма первой половины 1990-х годов): универсальный характер институциональных реформ, процесс европейской интеграции как ключевой стимул реформ, сходство институциональных конфигураций региональных автономий, прагматичное сохранение институционального статус-кво и отказ от дальнейшей децентрализации после вступления в Евросоюз. В данном контексте выделяется случай институционального реформирования в Сербии: «стартовые» структурные, статусные и исторические условия как факторы реформирования; отсутствие внешних стимулов к реформированию и ориентация на диалог с регионом расселения венгерского сообщества; наличие институционального ориентира реформирования – конфигурация автономии Воеводины 1980-х годов.
Насколько такие сценарии институционального реформирования в отношении венгерских сообществ в Румынии, Словакии и Сербии действительно значимы в рамках политики сохранения и укрепления территориальной целостности? Эффективность таких институциональных реформ как механизмов управления политико-территориальной гетерогенностью может быть операционализирована через измерение ее индикаторов: уровня интенсивности этнополитического и/или центр-регионального конфликта (если он имеет место быть) и степени угрозы целостности государства, которую несут регионалистские требования и заявления (например, манифест о независимости, заявление/проведение референдума и другие эпизоды). Анализируя подобные индикаторы в отношении исследуемых кейсов Румынии, Словакии и Сербии, необходимо отметить отсутствие значимой негативной динамики – налицо устойчивое отсутствие конфликтности согласно индексам Self-Determination Movements (Sambanis et al., 2018) и Conflict Barometer29. Качественный анализ также позволяет утверждать, что значимых угроз территориальной целостности в послереформенный период не наблюдается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный качественный сравнительный анализ показал следующие результаты. Случаи институционального реформирования как механизма управления политико-территориальной гетерогенностью в отношении венгерского территориального сообщества в Румынии, Словакии и Сербии демонстрируют различные сценарии. Национальное правительство Словакии в вопросе институционального реформирования во многом идет по стопам Румынии: европейская интеграция как значимый стимул, ограниченная прагматичная децентрализация, территориальная реконфигурация для ограничения структурной силы венгерского сообщества, сходные институциональные форматы субнациональных единиц в государствах. Случай Сербии выделяется как по структурным и статусным условиям (асимметричное административно-территориальное устройство, наличие более приоритетных для центрального правительства угроз территориальной целостности и др.), так и по сценарию институционального реформирования (фактическое отсутствие внешнего стимулирования, ориентация на венгерское сообщество и регионалистских акторов, четкое ви́дение институциональной кон- фигурации автономии). Вне зависимости от сценария институциональных изменений в Румынии, Словакии и Сербии в исследуемый хронологический период, особенно в 2000–2010-е годы, не наблюдается существенного нарастания уровня конфликтности, что свидетельствует об отсутствии значимых угроз территориальной целостности. Снижению конфликтогенного потенциала и угроз политико-территориальной целостности также способствуют структурные (например, демографический кризис и миграционный отток этнических венгров из регионов проживания) и агентские (например, идеологическая ориентация национального правительства) факторы.
Вместе с тем было бы ошибочно считать, что реформы – это единственный механизм сохранения политико-территориальной целостности в представленных государствах. Столь же важным механизмом являются межэлитные взаимодействия и кооптация регионалистских партийных сил, представляющих интересы венгерского регионального сообщества, в правительственные структуры на региональном и национальном уровне. Венгерские регионалистские партии активно включаются в правительственные коалиции, а идеологическая принадлежность общенационального коалиционного партийного партнера часто не имеет для них принципиального значения. Кооптация как механизм снижения этнополитической напряженности и рисков политикотерриториальной целостности государства часто наблюдается в Румынии (Грабевник, 2022) и Словакии (Everett and Redzic, 2021), что свидетельствует о наличии дополнительного сходства этих кейсов. Вариации институциональных (и не только) механизмов управления политико-территориальной гетерогенностью в современных сложносоставных политиях – широкое предметное поле для дальнейших научных изысканий.