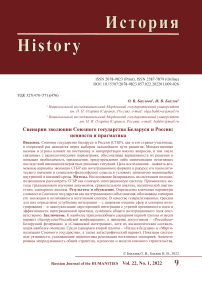Сценарии эволюции союзного государства Беларуси и России: ценности и прагматика
Автор: Бахлова Ольга Владимировна, Бахлов Игорь Владимирович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Союзное государство Беларуси и России (СГБР), как и его страны-участницы, в очередной раз находится перед выбором дальнейшего пути развития. Множественные вызовы и угрозы влияют на постановку и интерпретации многих вопросов, в том числе связанных с аксиологическими параметрами, обусловливая вариативность их решения и повышая необходимость предвидения, предупреждения либо минимизации негативных последствий имеющихся/вероятных рисковых ситуаций. Цель исследования - выявить возможные варианты эволюции СГБР как интеграционного формата в ракурсе его геополитического значения и социально-философского смысла в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней среды. Методы. Исследование базировалось на системном подходе, позволившем рассмотреть СГБР как сложную интеграционную систему. Применялись методы традиционного изучения документов, сравнительного анализа, политической диагностики, сценарного анализа. Результаты и обсуждение. Определены ключевые параметры сложности Союзного государства как интеграционного объединения, обоснованы сценарии его эволюции в позитивном и негативном спектре. В качестве генерализованных трендов для них определены углубление интеграции - с широким охватом сфер и секторов интегрирования - и деактуализация двусторонней интеграции с утратой креативности идеи и эффективности интеграционной практики, сужением общего интеграционного поля соответственно. Заключение. К наиболее правдоподобным сценариям первой группы отнесен вариант «Белорусско-Российской конфедерации», к наименее допустимым - «Российско-Белоруской федерации» и «Славянской интеграции», хотя их аксиологическая составля- ющая наиболее очевидна. Среди сценариев второй группы - «Назад в будущее» и «Маргинализация Союзного государства», а также катастрофический вариант. Показаны системные уязвимости, усиливающие перспективы реализации негативных сценариев. Акцентированы непродуманность общей стратегии, идеологии и модели союзного строительства, несформированность союзного права, зачаточность наднациональности в системе управления Союзного государства, неравновесность рычагов интегрирования, ограниченность инструментария интеграции, элитарность политических коммуникаций, недостаточность общественно-политической поддержки союзного строительства. Сделаны выводы о необходимости обеспечения в российско-белорусской интеграции разумного баланса между ценностями и прагматикой, важности конструктивной и активной работы во внутреннем измерении, солидарного реагирования на внешнее деструктивное воздействие.
Динамика интеграции, интеграционная система, политическое сообщество, рычаги интегрирования, союзное государство беларуси и России, союзное строительство, сценарии интеграции, федерализация, функциональная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/147237068
IDR: 147237068 | УДК: 327(470+571)(476)
Текст научной статьи Сценарии эволюции союзного государства Беларуси и России: ценности и прагматика
Союзное государство Беларуси и России (Союзное государство, СГБР) за более чем 20-летнюю историю существования пережило не одну попытку видоизменения интеграционных ориентиров и механизмов. У стран – участниц СГБР – Российской Федерации (РФ) и Республики Беларусь (РБ) – до сих пор не сложилось четкого и единодушного понимания модели союзного строительства, хотя некоторые ее контуры и параметры были определены давно1. Однако практически никогда они не оспаривали ценностное наполнение идеи двусторонней интеграции и интеграционного проекта. Еще в начале пути к добровольному объединению РФ и РБ заявили об опоре на «прочный фундамент общности судеб, исторических корней и традиционной дружбы братских народов, неразрывности их родственных уз, духовной и культурной близости». При этом аксиологический фактор коррелирует с очевидными утилитарными (функциональными) предпосылками и рычагами интегрирования, совпадением интересов во многих областях, включая геостратегическую, оборонную, экономи-ческую2. На современном этапе подобное сопряжение приобретает особую важность ввиду негативных проявлений общемировой трансформации, в том числе нарастающей геополитической напряженности, кризиса моделей и инструментов экономического развития, попыток целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации фашизма3. Усиливаются процессы критики и распада неолиберального мейнстрима в глобальной иерархии социальных наук, базирующегося на трех «аксиоматических китах»: господстве Запада, капитализме (свободный рынок) и либерализме (ценность индивидуальной автономии) [7].
В линиях репрезентации позиций РФ и РБ во внешнем измерении импульсы деструктивного воздействия на Союзное государство и страны-участницы чаще всего
Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. – URL: https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva . – Загл. с экрана.
Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://soyuz.by/deklaraciya-o-dalneyshem-edinenii-respubliki-belarus-i-rossiyskoy-federacii . – Загл. с экрана.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_389271/. – Загл. с экрана.
приписываются «коллективному Западу». Таким образом, сохраняется и даже укрепляется настоятельная потребность в многомерной интеграции в рамках Союзного государства, его превращения в мощный, дееспособный центр и полюс силы, а также социокультурного притяжения. Примечательно, что в политическом дискурсе сейчас наблюдается возрождение трактовок Союзного государства как «уникального геополитического проекта», основанного на общих ценностях и отношениях, что корреспондирует с отрицанием полностью и единственно прагматичного подхода к развитию интеграции4, который, казалось, возобладал в российско-белорусских связях в начале 2000-х гг. Вместе с тем реалии настоящего, как и прошлый опыт на фоне глобальной турбулентности [6], побуждают воздерживаться от выдвижения линейных и одномерных версий будущего Союзного государства. Необходимо принимать в расчет и формирование новой идентичности, носящей протестный характер, тенденции неопределенности в управлении, потерю политическими элитами разного уровня прежнего влияния на общественные политические процессы [5, с. 87].
Неопределенность, неустойчивость и даже непоследовательность фиксируются в научной литературе и применительно к Союзному государству, более широко – российско-белорусским отношениям. В зарубежном дискурсе Союзное государство часто рисуется уязвимым для «российского давления», а само оно – неэффективным объединением, и потому РБ рекомендуется диверсифицировать экономику и политику, как и курс в международных делах [16–17; 21]. Многие российские авторы критически либо скептически оценивают белорусскую политику многовекторности [9–10], но одновременно признают детерминацию интеграционного взаимодействия РФ и РБ политической и иной конъюнктурой. Исследователями предлагаются разные вероятности в обозначенном проблемном поле. Например, Е. Я. Виттенберг допускает три сценария (реальная интеграция РФ и РБ при сохранении суверенитета обеих стран; сохранение статус-кво; осуществление Республикой Беларусь многовекторной политики), считая первый наименее правдоподобным [4, с. 83–89]. А. Н. Спартак акцентирует экономический аспект, выделяя также три сценария (существенное сужение функционала СГБР в условиях дальнейшего углубления евразийской интеграции и расширения компетенции Евразийского экономического союза (ЕАЭС); глубокая заморозка проекта Союзного государства независимо от прогресса евразийской экономической интеграции; принятие долгосрочного политического решения о целесообразности дальнейшего развития формата Союзного государства), причем последний он отнес к наименее вероятным [8]. Тем не менее, события 2020 и особенно 2021 г. таковое пессимистическое допущение, напротив, опровергают. Ведутся сценарные разработки для интеграционных процессов на пространстве СНГ и ценностного измерения союзного строительства, в частности в контексте политики идентичности [2–3]. В области сценарного прогнозирования необходимо учесть результирующую нескольких параметров разных измерений, чтобы сформировать более целостное представление о потенциале совершенствования интеграционной стратегии и интеграционной политики РФ и РБ, при- нятия гибких управленческих решений и упрочения духовно-нравственных скреп наших народов.
Цель данной статьи – выявить возможные варианты эволюции СГБР как интеграционного формата в ракурсе его геополитического значения и социально-философского смысла в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней среды.
Задачи: охарактеризовать генерализованные тренды, основные драйверы и перспективы реализации той или иной вероятности в плоскости российско-белорусской интеграции; распределить выделенные сценарии на более и менее правдоподобные (допустимые) в позитивном и негативном спектре; показать направления динамики союзного строительства с учетом ключевых параметров сложности Союзного государства как интеграционного объединения и соотношения материальных и нематериальных факторов.
Методы
В основе исследования – системный подход, позволивший рассмотреть СГБР как сложную интеграционную систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных компонентов: сообщества, режима, власти и политического проекта [20].
В теоретико-концептуальном плане принципиально важными явились положения неофедерализма и модернизированного неофункционализма:
– о политическом сообществе, контролирующем использование средств насилия, распределение ресурсов и вознаграждений в обществе, фокусы политической идентификации [12]; об успешном преодолении кризисных условий благодаря равновесию между факторами функционального и идентификационного характера и постепенности в процессе углубления и расширения интеграции [1];
– неоднозначности результатов и вариативности интеграционного процесса – от расширения интеграционной системы с изменением ее компетенции и трансформации институционального механизма принятия решений до свертывания и индифферентности системы, через «трудные переговоры или временные отступления»; об артикуляции урегулирования кризисов как сути интеграционной динамики [13– 15; 18–19].
Применялись методы традиционного изучения документов, сравнительного анализа, политической диагностики. Центральное место принадлежало сценарному анализу на базе «ситуационного» подхода. Был сформирован спектр кратких аналитических сценариев эволюции СГБР, коррелируемых с изменением факторов и тенденций внутриполитической и международной обстановки. Для определения преимуществ и уязвимостей Союзного государства как интеграционного формата использовалась также методика Э. Беста [11].
Главными материалами исследования послужили сведения, размещенные на Информационно-аналитическом портале Союзного государства ( https://soyuz.by ), официальных сайтах Постоянного Комитета Союзного государства ( https://www . postkomsg.com), Евразийского банка развития (ЕАБР) ( https://eabr.org ), Программы развития Организации Объединенных Наций ( http://hdr.undp.org ).
Результаты и обсуждение
Преимущества («+») и уязвимости («–») СГБР как интеграционного объединения на основе методики Э. Беста освещены в таблице.
Указанные параметры, переплетение множества внутренних и внешних факторов, влияющих на функционирование Союзного государства, разнонаправленность тенденций общемирового развития позволяют обосновать несколько вероятных сценариев его эволюции, располагающихся в позитивном и негативном спектре.
Таблица
Ключевые параметры сложности Союзного государства Беларуси и России* / Table
Key parameters of the complexity of the Union State of Belarus and Russia
|
Ключевые переменные / Key variables |
Конкретные показатели / Specific indicators |
|
Количество стран-участниц / Number of participating countries |
+ компактность состава, что упрощает управление интеграционным процессом / compact composition, which simplifies the management of the integration process |
|
– явная асимметрия статусов, потенциалов и влияния РФ и РБ; ограниченность свободы маневра в СГБР, попытки создания «ситуативных альянсов» за его пределами / clear asymmetry in the statuses, potentials and influence of the Russian Federation and the Republic of Belarus; limited freedom of maneuver in the USBR, attempts to create “situational alliances” outside of it |
|
|
Относительные размеры участвующих стран / Relative sizes of participating countries |
+ обширная пространственная зона охвата процессом интеграции; возможности для наращивания объема и емкости рынка / an extensive spatial coverage area of the integration process; opportunities to increase the volume and capacity of the market |
|
– разновеликость стран; сложность пространственной организации, межрегиональное неравенство субъектов РФ, отдаленность многих из них от территории РБ не позволяют им в равной степени участвовать в интеграционном взаимодействии / different sizes of countries; the complexity of spatial organization, interregional inequality of the constituent entities of the Russian Federation, the remoteness of many of them from the territory of the Republic of Belarus do not allow them to equally participate in integration interaction |
|
|
Уровни развития / Development levels |
+ сопоставимость по индексу человеческого развития, нахождение в зоне очень высокого уровня человеческого развития; положительная динамика развития даже в условиях пандемии / comparability in terms of the human development index, being in the zone of a very high level of human development; positive dynamics of development even in a pandemic |
|
– разноуровневость макроэкономических показателей, асимметричность развития по сферам и секторам национального хозяйства / multi-level macroeconomic indicators, asymmetry of development by spheres and sectors of the national economy |
|
|
Степень реальной взаимозависимости / The degree of real interdependence |
+ положительная динамика наращивания взаимного товарооборота; в целом сохраняются доли стран-участниц во взаимной торговле / positive dynamics of increasing mutual trade; in general, the shares of the participating countries in mutual trade remain |
|
– гораздо меньший объем товарооборота РФ с РБ по сравнению с объемом внешней торговли со странами дальнего зарубежья, в том числе ведущими активную санкционную политику в отношении как РФ, так и РБ; обеспечение прироста во многом благодаря мировой конъюнктуре, а не взаимным интеграционным усилиям / a much smaller volume of trade between the Russian Federation and the Republic of Belarus compared to the volume of foreign trade with non-CIS countries, including those leading an active sanctions policy in relation to both the Russian Federation and the Republic of Belarus; Ensuring growth is largely due to the global situation, and not to mutual integration efforts |
|
Важность военных альянсов / The importance of military alliances |
+ обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); совокупность факторов, в том числе рост вызовов и угроз на западном для СГБР направлении, обусловливает чрезвычайную важность именно военно-политического компонента российско-белорусской интеграции / both countries are members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO); a combination of factors, including the growth of challenges and threats in the western direction for the USBR, determines the extreme importance of the militarypolitical component of Russian-Belarusian integration |
|
– РБ ограничительно (в силу ст. 18 Конституции) трактует свое участие в коллективных мероприятиях в области безопасности в рамках как ОДКБ, так и СГБР; полностью не сформирована интегрированная система оперативного и командного управления общей группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ и РБ; отсутствует стандартизация оснащения ВС, подобно НАТО, в рамках СГБР / the Republic of Belarus restrictively (by virtue of Article 18 of the Constitution) interprets its participation in collective security measures both within the framework of the CSTO and the USBR; the integrated system of operational and command control of the common grouping of the Armed Forces (AF) of the Russian Federation and the Republic of Belarus has not been fully formed; there is no standardization of equipment for the armed forces, like NATO, within the framework of the USBR |
|
|
Политические рамки / Political framework |
+ сходство трактовок вызовов и угроз странами-участницами, стимулирующее к консолидации и солидарности давление внешних акторов, вхождение во все интеграционные объединения региона СНГ и его «интеграционное ядро», координация позиций во внешней политике, традиционные исторические связи, длительное пребывание в общем геополитическом и едином политико-государственном пространстве / the similarity of interpretations of challenges and threats by the participating countries, stimulating the pressure of external actors to consolidate and solidarity, joining all integration associations of the CIS region and its “integration core”, coordination of positions in foreign policy, traditional historical ties, long stay in a common geopolitical and unified political-state space |
|
– «верхушечность» политических коммуникаций в СГБР, артикуляция дискурса «суверенности» национального уровня без серьезного обсуждения перспектив «позитивного суверенитета» Союзного государства; различия форм политико-территориального устройства / the “superficiality” of political communications in the USBR, the articulation of the discourse of “sovereignty” at the national level without a serious discussion of the prospects for “positive sovereignty” of the Union State; differences in forms of political and territorial structure |
|
|
Взгляды, ценности и нормы / Attitudes, values and norms |
+ признание геополитической важности и социальной значимости российско-белорусской интеграции, ее многомерности; устойчивость государственных институтов; апелляция к традиционным ценностям и нормам международного права; недопущение ревизии памяти о Великой Отечественной войне и фальсификации истории / recognition of the geopolitical importance and social significance of Russian-Belarusian integration, its multidimensionality; sustainability of state institutions; appeal to traditional values and norms of international law; prevention of revision of the memory of the Great Patriotic War and falsification of history |
|
– торможение внедрения наднациональности, обусловленное опасениями «поглощения» Россией Беларуси; несформированность союзной идентичности / inhibition of the introduction of supranationality, due to fears of “absorption” of Belarus by Russia; unformed union identity |
|
Перспективы / Prospects |
Расширения состава СГБР: фактически отсутствуют; ранее так или иначе обсуждавшиеся гипотетические возможности присоединения Армении, Молдовы, Кыргызстана, Украины и Союзной Республики Югославия неактуальны по геополитическим, внутриполитическим, экономическим и социокультурным основаниям. В «шоковой» ситуации допустимо расширение СГБР за счет частично признанных и непризнанных республик региона СНГ / Expansion of the composition of the USBR: in fact, none; The hypothetical possibilities of joining Armenia, Moldova, Kyrgyzstan, Ukraine and the Federal Republic of Yugoslavia, previously discussed in one way or another, are irrelevant for geopolitical, domestic political, economic and socio-cultural reasons. In a “shock” situation, it is permissible to expand the USBR at the expense of partially recognized and unrecognized republics of the CIS region |
|
Углубления интеграции в формате СГБР: позитивный сценарий наиболее вероятен в социально-экономической, в меньшей степени – в культурно-гуманитарной и военно-политической сферах. Федерализация Союзного государства маловероятна, но ее драйвером может послужить чрезвычайное обострение внутренней и внешней обстановки, усиливающее эффект «фрустрации» / Deepening integration in the USBR format: a positive scenario is most likely in the socio-economic, to a lesser extent – in the cultural, humanitarian and militarypolitical spheres. The federalization of the Union State is unlikely, but its driver could be the extreme aggravation of the internal and external situation, which intensifies the effect of “frustration” |
* Составлена по: Информационно-аналитический портал Союзного государства ( https://soyuz.by ); официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства ( https://www.postkomsg.com ); Программа развития Организации Объединенных Наций ( http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_ru.pdf ).
Сценарии позитивного спектра увязываются с новыми возможностями решения интеграционных целей и задач в контексте реализации национальных интересов стран-участниц и чаяний их народов, стабилизации внутренней и международной обстановки, обеспечения международной, региональной, союзной и национальной безопасности. Общий генерализованный тренд – углубление российско-белорусской интеграции. Различия касаются ее теоретико-концептуальной конструкции, степени и охвата сфер, секторов и рычагов интегрирования. Принимались в расчет вероятные различные состояния компонентов интеграционной системы СГБР.
-
1. Федералистский сценарий – создание «Российско-Белорусской федерации» (РБФ). Предполагает не просто имплементацию Договора 1999 г., но выход за его рамки в сторону усиления наднациональ-
- ных элементов. Драйверы сценария – достижение широкого и прочного консенсуса между РФ и РБ, их элитными группами на фоне дальнейшего осложнения внутренней и внешней среды; повышение общественной активности на союзном уровне, стимулируемое и поощряемое обеими странами, их властями; демонстрация и трансляция положительного опыта интеграции в рамках СГБР, осознание населением непосредственных преимуществ взаимной интеграции в контексте «новой регионализации». Просматриваются две версии этого сценария:
– «верхушечная федерация», когда фактически произойдет лишь интеграция основных элементов политических систем РФ и РБ, а точнее – правящих элит, при одновременном соблюдении юридических процедур оформления государственно-политического единства (например, посред-
- ством организации референдумов в РФ и РБ); предполагает концентрацию субъектов процесса и его акторов на принудительных и утилитарных (преимущественно воплощающихся в категориях «размена» между группами интересов) рычагах интегрирования и уязвимость средств идентификации ввиду слабой информационной и символьной политики, кризиса/размыва-ния традиционных ценностей и невозможности сформулировать прочную консолидирующую «большую идею» как внутри обоих интегрирующихся государств, так и в рамках СГБР; сценарий более вероятен в нестабильной и деструктивной внешней среде; с политической точки зрения может стимулироваться стремлениями правящих элит как в РБ, так и в РФ сохранить прежние властные позиции в ситуации нарастающих вызовов извне и изнутри (например, вследствие новых попыток «цветных революций»);
– «реальная федерация», основывающаяся не только на устойчивом пакте элит, но и на масштабной общественной поддержке. Данный вариант – крайний «идеальный образ», мыслимый скорее на долгосрочную перспективу. Требует длительной и постоянной работы на разных направлениях и непременно – внутренней социально-политической солидарности, поддержки идеи и процесса российско-белорусской интеграции в политическом сообществе СГБР и обществах стран-участниц, вовлечение разнообразных общественных объединений, регионов, выступающих как полноценные агенты интеграции, благоприятной внешней среды. Предусматривает сбалансированность рычагов интегрирования, перемещение фокуса политической идентификации и социальной лояльности на уровень Союзного государства, формирование новой системы власти и управления (включая президента Союзного государства, союзный парламент и др.), интегра-
- ционного права, с установлением принципа его верховенства по отношению к национальному праву. Допускает создание значительного числа союзных политических партий, участвующих в выборах в союзные органы. Предварительно должны быть решены сложные вопросы внутри- и межгосударственного уровня (в том числе по содержанию и проведению конституционной реформы в РБ, выбору модели РБФ (симметричная двусубъектная, асимметричная и т. д.). Препятствия федерализации – абсолютизация государственного суверенитета; низкий уровень интеграции политических и правовых систем; асимметрия статуса и потенциалов РФ и РБ, консервирующая стереотипы «иждивенчества» Беларуси и ее «поглощения» Россией; относительно небольшой процент сторонников подобного варианта в обеих странах, если судить по результатам соцопросов; «отвлекающие» факторы, обусловливающие рассредоточение приоритетов интеграционной политики (прежде всего для РФ).
-
2. Промежуточным/предшествующим вариантом может быть «Российско-Белорусская конфедерация» (РБКФ), доказывающая полезность и успешность, что детерминирует дополнительные осознанные побуждения к федерализации. Тяготеет к «статус-кво плюс». Необходимые условия реализации – взаимная потребность друг в друге; спрос на интеграцию в формате Союзного государства гражданами стран-участниц разных возрастных групп, включая молодежь; укрепление предпосылок «перелива» положительных результатов двусторонней интеграции на новые сферы и сектора; складывание эффекта «обобщения успехов». В целом вариант корреспондируется с достижением целей и задач по Договору 1999 г., хотя на практике, учитывая пакет решений от 4 ноября 2021 г., в большей степени будет ориентирован на его адаптацию или ревизию сообразно меняющимся
обстоятельствам. По-прежнему в интеграционной повестке будет присутствовать «дискурс суверенности», актуальный для обеих стран. В системе политических коммуникаций продолжат доминировать элитные группы и правительственные акторы и агенты. Наднациональный (союзный) уровень политического сообщества будет нуждаться в совершенствовании. Система власти и управления может быть приближена к системе, подразумевавшейся в Договоре 1999 г., но перспективы создания союзного парламента в рамках данного сценария туманны.
-
3. «Сообщество безопасности России и Белоруссии» (СБРБ) – углубление интеграции с акцентом на военно-политической и внешнеполитической сферах в ситуации эскалации общих вызовов, угроз и рисков в области безопасности. Будут внедрены новые интеграционные инструменты, вероятно, по аналогии с инструментами Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) Европейского Союза (ЕС). На территории РБ будут размещены дополнительные элементы российской военной инфраструктуры (авиабаза, пусковые установки наземного базирования и др.). Допустимо существенное расшире-
- ние общей группировки войск (сил) РФ и РБ. Требуются снятие ограничений конституционно-правого характера для военнополитической интеграции, значительные финансовые и политические ресурсы. Формат СБРБ вполне может быть совместим с ОДКБ, продолжая выступать ядром системы коллективной безопасности в Восточноевропейском регионе. Вместе с тем в экономической области ведущие позиции могут быть заняты ЕАЭС – ввиду необходимости концентрации ресурсов РБ и РФ на определенном векторе и невозможности быстрого и эффективного их продвижения на подразумеваемых 28 магистральных направлениях союзного строительства. Ожидаема артикуляция принудительных рычагов интегрирования.
-
4. «Экономический и валютный союз России и Белоруссии» (ЭВСРБ) – сосредоточение приоритетных усилий РБ и РФ на экономической области. Предполагает относительную геополитическую и внутриполитическую стабильность. С другой стороны, сценарий может стимулироваться усиливающимися социально-экономическими разрывами общемирового и регионального уровня, а также ротацией правящих элитных групп в одной или обеих странах – участницах СГБР. Новые властные элиты в целях предупреждения политических рисков, связанных с обвинениями в «сдаче суверенитета» (РБ) или «побуждении к интеграции», «неоимпериализме» (РФ), будут демонстрировать приверженность прагматическому подходу к интеграции, без ее «перелива» на политическую сферу. При незначительных рокировках правящих элит допустимы большая степень ориентации на уже принятый пакет решений от 4 ноября 2021 г. и возобновление обсуждения перспектив валютной интеграции. В соотношении с другими интеграционными объединениями региона ЭВСРБ может восприниматься как более продви-
- нутый формат в сравнении с ЕАЭС, однако уступающий в значимости ОДКБ, поскольку военно-политическая сфера уйдет на задний план.
-
5. «Славянская интеграция» – достаточно популярный в конце 1990-х гг. проект, базирующийся на идее объединения восточнославянских народов. В 2000-е гг. подвергся политическому забвению вследствие прежде всего охлаждения российско-украинских отношений. Украинский кризис нанес едва ли не решающий удар по нему. В июле 2021 г. проект, по сути, был политически реанимирован в президентском и официальном дискурсе РФ5. В свою очередь президент РБ неоднократно ратовал за «славянскую идею»6. В текущей ситуации данный сценарий, тем не менее, остается малоправдоподобным. Пространственные рамки его реализации могут охватить не всю территорию Украины, а области Донбасса – непризнанные Луганскую и Донецкую республики, в самом оптимистическом варианте – и иные ее юговосточные области, Новороссию. Данный
Два первых сценария в плоскости интеграционных процессов на пространстве СНГ будут означать утверждение СГБР в качестве однозначно привилегированного интеграционного формата для РБ и РФ, а также модельной интеграционной площадки по выработке и апробированию различных инициатив и проектов для всего региона Содружества. Однако сценарий РБФ может одновременно восприниматься другими странами СНГ и их элитными группами как настораживающий и сопрягаться с опасностью перетекания федералистского сценария в «имперский», соответственно, с риском сужения сферы собственного контроля.
Третий и четвертый варианты в большей степени сопрягаются с установками модернизированного неофункционализма и неофункционализма соответственно. В СБРБ возобладает большая (высокая) политика, в ЭВСРБ – малая (низкая). Каждый из вариантов означает неравновесность структуры интеграционной системы. Однако оба рассматриваются как позитивные, так как означают сохранение эксклюзивности идеи российско-белорусской интеграции, по крайней мере в определенных областях.
сценарий предусматривает акцент на принудительных и идентификационных рычагах. Последние могут интерпретироваться даже как приоритетные, с апелляцией к духовному единству, братским узам и т. д. Воплощение в жизнь данного сценария допустимо на фоне эскалации украинского кризиса и дальнейшей деградации киевского режима при условии достижения полной солидарности между РФ и РБ по украинскому вопросу и статусу Крыма, а также устойчивости политических режимов в обеих странах – участницах СГБР. «Славянский» сценарий может сочетаться с вариантами РБФ и СБРБ, означающими разную степень интеграции указанных территорий в союзное пространство. Еще одна вероятная модификация – «СГБР плюс», которая может трактоваться по аналогии отношений РФ с Абхазией и Южной Осетией. Вместе с тем опора на «славянскую идею» как фундамент глубокой интеграции непосредственно для России может повлечь за собой этнополитические риски ввиду сложного состава населения. В теоретико-концептуальном плане данный сценарий более мыслится в неофедералистском ракурсе.
Сценарии эволюции Союзного государства в негативном спектре коррелируют с сужением коридора возможностей для поступательного развития интеграции в рамках СГБР и появлением/возрождением альтернативных интеграционных проектов, представляющихся РФ и РБ, их политическим акторам, населению более привлекательными или полезными.
-
1. «Назад в будущее, или Имитация интеграции» – фактически «статус-кво минус». Его характеристики – декларативность заявленных интеграционных ориентиров, невыполнение пакета интеграционных решений, торможение по другим перспективным направлениям, применение тактики «ситуативных альянсов». Сопрягается с активностью коммуникаций между представителями элитных групп, стремящихся посредством имитации интеграции сохранить собственные властные позиции либо получить дополнительные выгоды благодаря тем или иным комбинациям и маневрам. В плоскости интеграционной политики предполагает возобновление многовекторности. Для России сам по себе проект СГБР не будет представлять особого интереса, но формально будет позиционироваться как стратегически важный. Белорусская сторона вернется к продвижению идеи «интеграции интеграций» и тактике «двух/трех стульев». Сценарий предусматривает значительную вариативность. Он может подталкиваться как действиями обеих сторон – российской и белорусской, так и одной из них. В первом случае и РФ, и РБ, элиты обеих стран не будут сильно нуждаться в СГБР, так как их собственное положение значительно стабилизируется, нивелируется влияние внутренних и внешних рисков. В то же время Союзное государство останется одним из фокусов дискурсивных практик и «резервных» геополитических инструментов на случай нового ухудшения ситуации. Второй вариант может быть следствием улучшения ситуации для одной стороны и, напротив, ухудшения – для другой. Например, произойдет нормализация отношений РБ с западными акторами, которые пойдут на легитимацию А. Г. Лукашенко в целях нанесения серьезного удара по России. Допустим, при отсутствии реального конкурента А. Г. Лукашенко во внутриполитическом поле, согласии населе-
- ния с сохранением прежнего режима либо его индифферентности – и к белорусскому лидеру, и к идее интеграции с Россией. В свою очередь нормализация отношений РФ с коллективным Западом или его ведущими акторами в отдельности (США, ЕС, Германией и др.), достижение компромиссов или «разменов» между ними может подвигнуть российское руководство к отказу от попыток стимулирования Союзного государства и поддержки белорусского режима. Условия воплощения данного варианта во многом аналогичны условиям для белорусской стороны – воспроизводство прежней элиты, ее костяка, безразличие населения к проекту СГБР, финансовые сложности, не позволяющие сохранять «подпитку» РБ на прежнем уровне, нежелание по разным причинам прибегать к средствам ее «принуждения» к интеграции. Данный сценарий более тяготеет к одномерно трактуемой федералистской модели интеграции, подразумевающей абсолютизацию фактора политических элит, либо – к теории межправительственной интеграции.
-
2. Сценарий дальнейшей прагматиза-ции интеграционного взаимодействия, не способствующий легитимации интеграции через ценностные индикаторы. Поддерживается утратой эмоциональной близости народов РФ и РБ, объективной необходимостью диверсификации внешнеторговых и иных контактов, кризисом традиционных ценностей, общих духовных и исторических скреп. К тому же внешнее измерение политики идентичности РФ и РБ артикулирует скорее не плоскость интеграционного взаимодействия, а поддержку и защиту соотечественников за рубежом. Сценарий может быть перенаправлен в позитивное русло благодаря концентрации на утилитарных рычагах интегрирования, но их применение не должно быть подвержено конъюнктурным мотивам. В этом ракурсе аксиологический компонент взаимоотношений может
-
3. «Развитие вспять», основанный на сужении компетенции СГБР, легализованной в решениях его высших органов. Предполагает отказ от многомерного понимания интеграции и при этом, по сравнению с названными ранее сценариями позитивного спектра, не допускает возможности ее углубления на одном или нескольких направлениях. Свертывание интеграции в определенной сфере либо сферах может повлечь за собой цепную реакцию. Однако официально представители национальных и союзных органов будут демонстрировать стремление сохранить данный проект со ссылками на его актуальность, социокультурную, геостратегическую ценность. Драйвером может выступать недостаточность ресурсов для воплощения в жизнь продвинутых интеграционных решений. Отличается от первого сценария меньшей значимостью политических факторов взаимодействия и узаконением сворачивания интеграции. Может базироваться на установках, близких теории формальной интеграции.
-
4. «Маргинализация Союзного государства» как интеграционного формата, его «растворение» среди других интеграционных объединений с участием РФ и РБ. Может быть продолжением предыдущих сценариев при условии следования ведущих субъектов и акторов наметившейся ранее логике поведения. В худшем варианте предполагает крайнюю формализацию СГБР, по сути, его существование как ничего не значащей фикции в силу привычки либо внутриполитических потребностей. В отличие от предыдущего сценария произойдет дезавуирование важности Союзного государства и в официальном дискурсе обеих стран-участниц. В лучшем случае СГБР будет восприниматься как одно из интеграционных объединений региона СНГ наряду с ЕАЭС, ОДКБ, фактически инкорпорированное в их системы. Может стимулироваться разочарованием в СГБР, неэффективностью интеграционного взаимодействия в нем. В теоретико-концептуальном ключе не предусматривает внятности и четкости идентификации.
-
5. «Крах Союзного государства» – катастрофический сценарий. Сопрягается с той или иной степенью ухода РБ из зоны интеграционного притяжения РФ, ее переориентации на иные ценности, например обще-европейские/евроатлантические. Сценарий будет означать и крах конструкта союзной идентичности. В более мягком варианте РБ может принимать ограниченное участие в СНГ («туркменская модель») либо даже в ОДКБ и ЕАЭС, но на особых условиях. В более жестком варианте – окончательно покинет все «пророссийские» объединения, выберет путь интеграции в ЕС и НАТО. Драйверы катастрофического сценария в целом – эскалация взаимного недопонимания, разрушение элитного пакта, вмешательство внешних игроков, цветные революции, резкое ухудшение положения России, что приведет к утрате ее привле-
- кательности для белорусского руководства, и не только «проевропейского». Данный сценарий не корреспондируется с определенной моделью/теорией интеграции. В большей степени он подталкивается уязвимостями не теоретического, а гео- и внутриполитического (множественностью рисков, гиперлиберализацией элит) характера.
быть истолкован прагматично без лишних рисков для российско-белорусской интеграции, прежде всего через доказывание практикой действительных преимуществ для граждан обеих стран внутри интегрированного пространства. Положительная модификация сценария увязывается как с внутренними для Союзного государства факторами, в том числе большим объемом взаимного товарооборота, инвестиционной привлекательностью, многочисленностью русской и белорусской диаспоры на территориях РБ и РФ соответственно, так и с внешними – относительно благоприятной внешней средой, неконкурентностью других интеграционных форматов, инициируемых внешними акторами (того же Восточного партнерства). Обоснование сценария может исходить из неофункционалистской логики.
Заключение
Наиболее правдоподобным сценарием в позитивном спектре видится сценарий «Белорусско-Российской конфедерации» при условии сохранения текущих тенденций, вызовов и угроз как странам-участницам, так и Союзному государству в целом. Он является довольно нейтральным в аксиологическом смысле, допускает изрядную долю прагматизма, но в то же время не отвергает комплексности и многомерности идеи и практики. Наименее вероятными представляются сценарии «Российско-Белорусской федерации» и «Славянской интеграции» или какой-либо модификации последнего сценария, построенной исключительно вокруг ценностных оснований и духовных смыслов. В то же время с точки зрения геополитической, социальной и духовной значимости гармоничным выглядит именно трудноосуществимый сценарий РБФ.
Среди сценариев негативного спектра к правдоподобным в первую очередь можно отнести сценарии «Назад в будущее» и «Маргинализация Союзного государства», поскольку во многом они воспроизводят уже сложившиеся алгоритмы поведения стран-участниц, их элитных групп и дискурсивные практики официального уровня в период, предшествовавший белорусскому кризису 2020 г. Катастрофический вариант на данный момент и ближайшую перспективу – наименее вероятный из обозначенных сценариев.
Катализатором усиления вероятности осуществления сценариев негативного спектра могут быть постоянные систем- ные «стрессы» как деструктивные факторы двусторонней интеграции, обусловленные недостаточной поддержкой режима системы СГБР со стороны политического сообщества, чрезмерности его требований или их неудовлетворения, а также иными системными уязвимостями, включая не-продуманность общей стратегии, идеологии и модели союзного строительства; несформированность союзного права – «организационного кода», в котором преобладают неформальные и ситуативные правила; доминирование национальных органов власти и зачаточность наднациональности в системе власти и управления СГБР; неравновесность рычагов интегрирования, ограниченность инструментария интеграции; элитарность политических коммуникаций внутри Союзного государства; недостаточность поддержки союзного строительства коллективно действующими лицами (политическими партиями и др.), населением обеих стран. Внутренние импульсы, видеалепризванныеспособствовать утверждению наднациональных стереотипов и стандартов, на деле в большей степени предназначены укреплять «дискурс суверенности» и препятствуют политической интеграции и ее углублению в целом. Считаем чрезмерно подвижным политический проект Союзного государства как интеграционного объединения, материализующий его задачи как интеграционной системы непоследовательно и фрагментарно.
Полагаем, что серьезное изменение внутренних и внешних обстоятельств в последние годы для РФ и РБ, всего СГБР не отменяет альтернативности и подвижности процесса российско-белорусской интеграции. Даже полная реализация пакета интеграционных решений 2021 г. не будет означать линейности в плане осуществления стратегических ориентиров, заложенных Договором 1999 г. По сути, эти решения усилили предпосылки для транс- формации модели Союзного государства скорее на началах функционализма, нежели федерализма. С другой стороны, для воплощения подобной модели нет полного комплекса структурных и прочих условий.
Разумеется, нельзя «привязывать» союзное строительство лишь к моделям и практикам, апробированным в большей степени в плоскости европейской интеграции: велики различия в «стартовых возможностях», стимулах и движущих силах, политических и экономических системах интегрирующихся государств. Российская Федерация и Республика Беларусь обладают несомненными преимуществами по сравнению со странами, ставшими членами Евросоюза, – социокультурной однородностью и опытом пребывания в едином политико-государственном пространстве. Однако пример Украины показывает, что они не устраняют дезинтеграционных побуждений. Потому необходимо обеспечить разумный баланс между ценностями и прагматикой, не сосредоточиваясь толь- ко на одной опоре интеграции, а также не забывать о важности общественной поддержки российско-белорусской интеграции, не превращая ее в «интеграцию элит/ режимов/президентов». Работа «внутри» Союзного государства может существенно сгладить негативное влияние внешних акторов, не заинтересованных в успехе союзного строительства, сплочении РФ и РБ. С другой стороны, Союзное государство не должно «выпадать» из общего русла интеграционных процессов в регионе СНГ. Оно может стать, как и задумывалось, передовой площадкой генерирования и апробации интеграционных проектов для других объединений в рамках Содружества, не растворяясь в них. Насущны демонстрация солидарности в области внешней политики и безопасности, а также совместное оперативное реагирование на внешнее деструктивное воздействие. В совокупности названные факторы поспособствуют укреплению предпосылок для реализации позитивных сценариев.