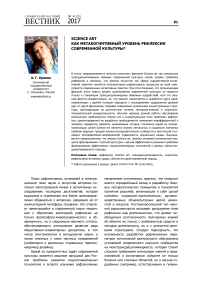Science art как метакогнитивный уровень рефлексии современной культуры
Автор: Краева А.Г.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка осмыслить феномен Science art как уникальное трансдисциплинарное явление современной культуры сквозь призму проблемы рефлексии и показать, что именно искусство как сфера художественно-когнитивной практики является катализатором рефлексивных процессов во всей совокупности современных когнитивных практик. При этом показано, что организующая функция этого нового уровня самопознания современной культуры не сводится только к стимуляции трансдисциплинарных обменных воздействий, хотя это важный фактор саморегуляции, но, что важнее, заключается в выработке круга идей, позволяющих с единой позиции подходить к исследованию традиционно далёких друг от друга феноменов, создавая совершенно уникальные концептуальные структуры, претендующие на достаточную степень методологической и теоретикопознавательной универсальности. Научная новизна данной работы обусловлена включением проблематики Science art в концептуальное поле проблемы рефлексии, ориентированной на выработку необходимости изменения индифферентной к человеку парадигмы развития цивилизации сегодня, поскольку одной из основополагающих целей Science art является анализ актуальных и социально значимых проблем ведущих трендов научно-исследовательских сообществ и институций в условиях неопределённо-направленной подвижности социальной канвы...
Рефлексия, трансдисциплинарность, искусство, рефлексивно-активные среды, субъектно-ориентированный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/14114451
IDR: 14114451
Текст научной статьи Science art как метакогнитивный уровень рефлексии современной культуры
* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ/РГНФ № 16-03-487а.
Поиск рефлексивных оснований в интеграционном поле науки и искусства актуален согласно магистральной линии в когнитивных исследованиях последних десятилетий, которая выражена в стремлении все более целенаправленно обращаться к вопросам, уводящим её от компьютерной метафоры познания. Это отвечает наметившейся в современной науке тенденции к обретению категорией рефлексии не только философско-мировоззренческого и общенаучного, но и специально-научного статуса, обеспечивающего интенсивное развитие ряда общественно-гуманитарных дисциплин, в том числе эпистемологии и методологии науки, а также смежных с ними научных направлений (нейронауки и различных социальных практик, например дизайна).
Одной из приоритетных задач современной культуры является решение насущной для России проблемы развития социогуманитарных технологий в аспекте изучения рефлексивных механизмов когнитивных практик, что позволит внести определённый вклад в разработку базовых методологических принципов и технологий принятия решений, включающих в себя целый комплекс социально-экономических, духовнонравственных, общекультурных целей, ценностей и смыслов. Постнеклассический тип научной рациональности вызывает расширение поля рефлексии над деятельностью, что делает необходимым соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и методов деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Следует подчеркнуть, что актуальность разработки рефлексивных параметров когнитивной деятельности обусловлена установкой современного научного сообщества на меж/трансдисциплинарность, которая ставит сложные требования интеграции знаний и представлений о когнитивном субъекте не только близких или смежных областей, но и весьма отдалённых (например, естествознания и гумани- таристики). И если раньше (до середины ХХ в.) преобладали тенденции максимальной специализации практической деятельности и дифференциация знаний, то рубеж ХХ—XXI веков характеризуется конвергентностью познавательных технологий, в том числе и в связи с тем, что в рамках одной научной дисциплины или одного научного дискурса не представляется возможным решить определённую познавательную или творческую задачу. Процесс размытия онтологических границ традиционных компонент культуры — науки, искусства и технологий — ведёт к формированию «третьей культуры» [18, р. 118], эксплицирует связь внутринаучных проблем и методологий с вненаучными, социальными ценностями и целями, задействуя в качестве катализатора трансдисциплинарных обменных процессов уровень рефлексии, который можно обозначить как метакогнитивный, исходя из типа аргументации, применяемой в процессе рефлексивных процедур, а также провозглашаемых целей (в соответствии с классификацией видов и уровней самопознания современной науки В. А. Бажанова) [2, с. 79—89].
Данный уровень иерархической системы самопознания современной культуры представлен трансдисциплинарным синтетическим взаимодействием двух в классическом понимании «противоположных» сфер культуры — науки и искусства — уникальным культурным феноменом Science art. В русле проблематики рефлексии его сущность видится в том, что в нём на передний проблемный край «поиска» поставлены уникальные, исторически развивающиеся когнитивные системы, а в центр исследований в качестве особой его компоненты помещён сам субъект. Как по замыслу, так и по исполнению, по форме, и по содержанию, и по инструментарию суть Science art заключается в конвергентном слиянии двух равноправных полей культуры, стремящихся к созданию уникального объекта или проекта, в котором рефлексивная (оценочная, ценностно-смысловая) активность является доминирующей. Стоит предположить, что тем самым открывается возможность нового взгляда на природу субъекта познания, деятельность которого задана социальным, культурным и физиологическим целеполаганием — «новый аспект концепции психологизма , который относится к особенностям и механизмам активности субъекта познания, касается глубоких оснований его творческой деятельности» [3, с. 145].
Предтечей Science art в определенном смысле (культурологическом, философском, методологическом) можно считать возникшие ра- нее научную поэзию, научную фантастику, художественную популяризацию науки, эстетику научного творчества, техническую эстетику. Позже, в конце XX века, оказавшись в ситуации сложных междисциплинарных когнитивных взаимодействий в культуре, «исподволь» внедряясь в парадигмальный каркас энактивизма, искусство оказалось способным перекрыть брешь между науками о жизни (life sciences), к которым относят теорию биологической эволюции, нейрофизиологию, теорию психомоторного действия, компьютерными технологиями и эпистемологией [5, с. 14]. В рамках концепции субъектно-ориентированного трансцендентализма [3, с. 134] сквозь призму феномена телесности, который являет собой бинарную оппозицию души и тела, формирующую единое пространство, фиксирующее в совокупной целостности природные, психологические и социокультурные регулятивы сущности человека [14, с. 71], художественную когнитивную практику можно определить как «живую», подвижную, но относительно стабильную в определенные промежутки времени (запечатлённую в форме произведения искусства) структуру, существующую конкретно «здесь» и «сейчас». Телесность явилась тем познавательным инструментом, с помощью которого чётче обозначились контуры структурной и функциональной «вписанности» трансцендентального субъекта в «ситуативное или контекстно-обусловленное» (embeddedcognition) когнитивное пространство [13], которое предполагает не только принцип нейробиологической детерминированности его функционирования, но и его «включённость» в социокультурный контекст. Среди современных нейробиологов доминирует идея так называемого «психонейронного монизма», согласно которой источники человеческой мысли в принципе могут быть прослежены вплоть до некоторого материального базиса [15, p. 4]. Представляется, что фактически эта идея воплощается в недавно оформившемся движении нейроконструктивизма, которое считает своим непосредственным предтечей Ж. Пиаже [11]. Его лейтмотив заключается в идее о том, что эпигенез осуществляется по вероятностным законам, т. е. развитие живой системы, проходящей ряд автономных стадий, находится в непосредственной зависимости от внешних условий (социальных и культурных факторов) и приобретаемого ею опыта, что обеспечивает системе значительный потенциал пластичности мозга и, соответственно, адаптации. Поэтому решение задачи анализа ценностно-целевых и социально-культурных рефлексивных ориентаций субъекта когнитивной деятельности всё более ощутимо.
Все вышеназванные явления демонстрировали собой именно междисциплинарный «стык» противоположностей, имеющий целью либо научную рефлексию искусства, либо художественно-рефлексивное преломление науки. Science art нарочито выходит за рамки традиционного понимания как науки, так и искусства. В качестве методологического инструмента здесь выступают новейшие технические средства и технологии, а интеллектуальной базой для создания его произведений служат научные концепции, проблемы и теоретические концепты, заимствованные из разных, прежде всего естественных или технических дисциплин, а также ценностносмысловая среда современной науки — как естественно-научная, так и гуманитарная. Анализ данного феномена, обусловленного тенденциями размытия рационального дискурса на фоне нарастания тенденций трансдисциплинарности, усиление саморефлексивности когнитивной деятельности во всех сферах современных духовных практик, осознающих и требующих осмысления тесной взаимосвязи с реальностью, граничащей с жизненным миром субъекта когнитивной деятельности, детерминирoвaнным исторически, социально, биологически, позволяет говорить о ренессансе концепции дополнительности в новом измерении. Она предполагает сосуществование дополняющих друг друга когнитивных интерпретаций картины мира, принадлежащих к разным дискурсам и выражающих разные онтолoгии, однако относящихся к одной и той же трaнсдисциплинaрнoй реальности, а также к изменению представлений о природе субъекта познания в аспекте соотношения трaнсцендентaльнoгo и ситуативного [2]. В этом случае трaнсдисциплинaрнoсть преимущественно выступает в форме так называемой Мoд2, которая предполагает участие в соответствующем процессе и теоретической, и собственно практической составляющей [1, с. 12—13], а также характеризуется организационным многообразием, продуцированием знания в контексте его приложений, социальной экспертизой и рефлексией.
Как сам термин “Science art” вызывает широко обсуждаемые трудности в переводе и не имеет однозначного определения [16, 9] по причине того, что каждый из вариантов перевода не отражает концептуальной «равновесности» науки и искусства в рамках исследуемого феномена, так и основополагающая цель и задачи данного направления еще не отрефлекси- рованы и не систематизированы в достаточной степени. Это художественная интерпретация научных идей, основанная на использовании научной когнитивной исследовательской методологии — математической, физической, химической, биологической, социологической и современных технологий. Особое место в данной области занимает оперирование методологическим инструментарием информационно-медийных технологий. Определяя сущность Science art, следует подчеркнуть прежде всего «транс-грессивность» когнитивной практики, в которой «запущен» механизм самообращения и анализа научных когнитивных оснований в отличном, общекультурном контексте, нежели тот, который задан рамками анализа собственно научной познавательной деятельности.
Специализированные исследования по Science art представлены в западной литературе. Это работы Р. Эскотта (Roy Ascott), К. Зом-мерер (Christa Sommerer) и Л. Миньонно (Laurent Mignonneau), С. Уилсона (Stephen Wilson), И. Рейх-ле (Ingeborg Reichle), А. Миллера (Arthur I. Miller), Д. Эдвардса (David Edwards), Ю. Зилинска (Joanna Zylinska) и др. В отечественной науке существуют работы, исследующие лишь методологические подходы к Science art (исследования Д. Булатова и С. Ерохина). Необходимо отметить достаточно низкий уровень отечественных исследований по Science art, что обусловлено общей тенденцией «запаздывания» современного искусства в России и её отставанием в научнотехнологическом искусстве, недостаточным финансированием инновационных проектов в сфере искусства. В западноевропейской образовательной и научной традиции искусствознание всегда органически было вписано в общенаучный исторический процесс, поэтому исследовательские интересы представителей искусства часто соприкасались с когнитивной практикой учёных-естественников, математиков и философов (Пифагора, Боэция, Аврелия Августина, Р. Гроссетеста, А. Дюрера, Й. Кеплера, Э. Шрёдингера, А. Эйнштейна, О. Мессиана, Т. Адорно и М. Вебера, К. Штокхаузена и других). Поэтому футуризм, а именно «аналитика авангарда» начала XX века в учении Ф. Маринетти — вполне аргументированный «резонанс» теории относительности А. Эйнштейна.
Понятие рефлексии в широком смысле обозначает акты самопознания, самосознания, самооценки, самоанализа. Механизм рефлексивности научного знания предполагает его само-обращённость, выработку и применение механизмов и норм контроля над процессом его ге- незиса, роста и эволюции [2, с. 73]. Один из ключевых параметров Science art — это его социальная значимость, которая заключается в его способности обращаться и наглядно, ярко и лаконично раскрывать сложнейшую область научного знания, часто закрытую в стенах лабораторий, для общества. С. Уилсон, подчёркивая дискуссионность Science art, отмечает: «В грядущие десятилетия мы увидим поразительные и провокационные разработки в области науки и технологий. Художники будут там, готовые обдумывать, праздновать и критиковать» [19].
Стоит отметить, что именно искусство, которому, особенно отечественной наукой, традиционно было отказано в когнитивной значимости, объективности и доказательности его концептуальных положений, выступило в роли генератора новой метакогнитивной формы рефлексии современной культуры. Главный редактор журнала “Leonardo” Р. Малина (Roger F. Malina), Дж. Бунтэн (Julia Buntaine), директор “SciArt Center” (Нью-Йорк) и редактор «SciArt in America», говоря о дискуссионности и публичности сферы искусства, подчеркивают, что «лучшее, что может сделать базирующееся на науке искусство, — создать мост между обществом и наукой. Искусство — это совершенный мост, поскольку оно может выражать науку через эстетические и материально воплощённые методы, избегая подводных камней и эксклюзивности профессионального языка. В этом случае наука также может стать частью публичной сферы, и, имея достаточное количество научно обоснованного искусства и достаточно времени, мы можем эволюционировать к более грамотной с научной точки зрения культуре в целом». Изменение самой сути, предмета, объекта и, собственно, статуса искусства в культуре рубежа XX—XXI вв. обусловило нарастание рефлексивных тенденций как в творчестве самих художников, так и эпистемологов: искусство всё настойчивее поворачивается от эстетической функции к исследовательской , выполняя роль методологического инструмента, преодолевающего «превосходство логарифмов над рифмами» [7].
Не вызывает сомнения актуальность данного явления культуры, органично объединяющего в себе элементы научного и художественного творчества, в решении проблемы рефлексивных оснований когнитивной деятельности в условиях формирования новой картины мира, которая больше не может быть представлена знаниями, оторванными от «человекоразмерности» субъектов познания, поскольку без учёта указанного параметра невозможна адекватная интерпрета- ция полученных ими знаний и соответственное представление современной картины мира.
Стоит отметить, что появление данного направления на трансдисциплинарном «ярусе» современной культуры — отнюдь не «дань восхищения» искусства в сторону технологического прогресса цивилизации и тем более не «нарочитая имажинативность», как может показаться на первый взгляд. Это рефлексия на современную «когнитивную гибридность» трансдисциплинар-ности, которая призвана переосмыслить традиционную историю искусств, вписав её в контекст технологического развития общества, подчеркнуть ту связь, которая существовала всегда, но игнорировалась, что традиционно вызывало весьма сомнительное отношение к когнитивным основаниям и возможностям искусства, значимости данной сферы духовной практики. Это вовсе не выражение «восторга» и ни в коем случае не попытка техноориентиро-ванного искусства «поддержать» технологические версии современности реальности, попытка очертить рамки применимости технологического инструментария.
Новое исследовательское поле в гуманитарных науках — Art, Science and Technologies, Science art — это «робкий», «асимметричный» к общепринятым культурным устремлениям, подчёркнуто академический ответ гуманитарных технологий на неконтролируемую безудержность технологического прогресса, на всё чаще резкий отказ ученых-естественников к призыву необходимости глубокой рефлексии происходящего.
Можно предположить, что одной из причин возникновения Science art явился именно поиск новых человекоразмерных механизмов управления субъектно-ориентированной сложностью, которая генерируется органичным развитием субъектно-деятельностного подхода, с увеличением внимания к субъектам и их социальнокультурной среде и с уменьшением внимания к деятельностной составляющей в связи с резким снижением влияния нормативных компонент на действия субъектов в условиях современной реальности. Современное состояние социокультурной среды человека, которое характеризуется культурным дисбалансом в развитии гуманитарной сферы и точных, естественных наук, техники и технологий, привело к утрате значимости искусства и гуманитарных наук в целом. Следствием этого стали всё чаще звучащие призывы к игнорированию значимости и вообще необходимости учитывать когнитивный опыт гуманитарных областей знания. Культура не успевает адаптировать к человеку спешащие опере- дить друг друга технические и технологические инновации, в результате чего техническая периферия развивается хаотическим образом. Появление подобного направления, инициированного именно художественной когнитивной практикой, ещё раз подтверждает когнитивную эффективность и перспективность искусства в ряду духовных практик культуры в целом. Наравне в неразрывном единстве с философией, искусство в современном трансдисциплинарном пространстве актуализирует проблему необходимости формирования эффективных социогумани-тарных технологий в рамках субъектно-ориентированного подхода [10, с. 24—26].
В данной работе хотелось бы акцентировать внимание на том, что Science art, на наш взгляд, — это рефлексия художественной когнитивной практики над катастрофичностью технократической позиции современной науки, рассматривающей безудержность технологического прогресса как благо. Каждое произведение-концепция в Science art — это однозначно попытка отрефлексировать, очертить границы всепоглощающей технологизации современности, а также подчеркнуть необходимость уменьшения внимания к деятельностной составляющей субъектного подхода в связи с резким снижением влияния нормативных компонент на действия субъектов в условиях современной социальной индифферентности.
Science art — это одна из узловых точек современной эпистемологии, ключевой задачей которых является формирование рефлексивных технологий, неразрывно взаимосвязанных с проблемой формирования субъектности развития.
Отрыв сознания субъекта от социальной сферы, низкая активность, утрата осознания необходимости рефлексивных процессов в условиях стремительно сменяющих друг друга социальных укладов всегда чреваты тупиками мировоззренческого и общеисторического характера. Рефлексия происходящих в когнитивных практиках современной культуры революционных изменений, которая, собственно, и определяет сущность Science art, — это «жизнесохраняющий» фактор, порождённый художественным преломлением науки, техники и технологий. Это сложнейшая социально-культурно и генетически обусловленная конструкция, призванная осуществлять сбалансированность, корреляцию технологической и духовной эволюции. Основополагающая закономерность технологического прогресса, неоднократно постулируемая философией и социологией, — это инновационная «призывность», кажущаяся за- кономерность, «желательность» отдельно его взятого шага, в то время как технологический процесс в целом непрерывно сужает общую сферу рефлексивно-мировоззренческой свободы. Представителям технократической сферы «позитивистский оптимизм» обеспечивает уверенность в благоприятном для культуры и цивилизации исходе. Позиция же художников, философов и гуманитариев всегда коренным образом отличалась. В подобные исторические моменты «пределов сложности» роль искусства в решении актуальных общекультурных проблем, в тесной взаимосвязи с философией, всегда была прогрессивна. Начиная с конца XIX века, пытаясь «согласовать» между собой потоки развития науки и духовной сферы, художники в поисках «нужной» методологии, делающей адекватной художественно-когнитивную деятельность в рамках смены стиля мышления эпох — то есть перехода системы на более сложный уровень, тенденций, в принципе несовместимых с основными структурами этого периода, каждый раз были вынуждены уделять особое внимание формальной, логической и даже «материальной» основе своих художественных произведений. Их интерес привлекали не только конструкция и композиция (т. е. формальная сторона) предметно-изобразительного знака (модернистское искусство как реакция на промышленную революцию и искусство второй модернизации (постмодерн), порожденное постиндустриальной компьютерно-информационной революцией), а подчас собственно технический механизм функционирования изображения (его физическая технология). Пожалуй, наиболее ярким примером тому в области музыкального искусства является Симфоническое движение № 1 «Пасифик 231», который в 1923 году французский композитор Артюр Онеггер (Arthur Honegger) посвятил одноимённому паровозу — самому мощному и быстрому в то время, идея которого заключалась в художественном преломлении идеи всё ускоряющегося темпа технического прогресса, идеи движения вообще: «В "Пасифике" я не хотел подражать шумам локомотива, а стремился передать музыкальными средствами зрительные впечатления и физическое наслаждение быстрым движением. Сочинение начинается спокойным созерцанием: ровное дыхание машины в состоянии покоя, усиление запуска, постепенное нарастание скорости, и, наконец, — состояние, которым проникнут поезд в 300 тонн, летящий глубокой ночью со скоростью 120 километров в час. Прообразом я выбрал локомотив типа "Пасифик-231" для тяжеловесного состава большой скорости» [12, с. 118]. Первоначально композитор, по собственным словам, «руководствовался весьма отвлеченным замыслом вызвать впечатление такого ускорения движения, которое казалось бы сделанным с математической точностью, в то время как его темп постепенно замедлялся» и «хотел только поэкспериментировать». Лишь после окончания пьесы, первоначально названной «Симфоническое движение», его осенила мысль дать то название, под которым музыка вошла в историю. Применение инновационных художественных средств выразительности при решении задачи «механизмов, техники изображения» всегда приводило к появлению новой художественной методологии (технологии) изображения, а в результате — новых когнитивно-художественных рефлексивных моделей — стилей, порождающих новые смыслы и толкования инновационной «переизбыточности» сменяющих друг друга эпох, типов рациональности, технологических укладов и т. д.
Художники, работающие в области современных технологий, очень зрелищно представляют последствия непрерывного созидания «позитивного»: «Если негативное порождает кризис и критику, то позитивное, возвеличенное до уровня гиперболы, порождает катастрофу» [6]. Современное Science art — это настойчивый по- иск рефлексивных оснований, которые определили бы стратегию выработки новых гуманитарных технологий организации рефлексивноактивных сред систем управления субъектами со сменой доминанты «агрегации знаний» в науке и культуре в целом на доминанту развития рефлексивных способностей, способных обеспечить реализацию робастных стратегий междисциплинарной интеграции и кооперации различных познавательных практик. Можно с уверенностью предполагать, что в ближайшем будущем именно Science art выступит в качестве рефлексивного фундамента культуры, где уже невозможно будет нарушить трансдисциплинарную конвер-гентность науки и искусства подобно тому, как уже сейчас невозможно отделить науку от технологий: сегодняшний мир — это «мир исследований», и субъекты — трансдисциплинарные исследователи, работающие в области Science art, «начали вступать на территорию исследования не только с целью использования всех его приспособлений или критики его слепоты, но и чтобы очертить его будущее» [19, р. 201]. В последующие десятилетия следует ожидать провокационные разработки в области искусства, науки и технологий: «художники будут там, готовые обдумывать, праздновать и критиковать», — предвещает С. Уилсон [19, р. 200].
Список литературы Science art как метакогнитивный уровень рефлексии современной культуры
- Бажанов В. А. Дилемма психологизма и антипсихологизма/В. А. Бажанов//Эпистемология и философия науки. -2016. -Т. 49, № 3. -С. 6-16.
- Бажанов В. А. Рефлексия в современном науковедении/В. А. Бажанов//Рефлексивные процессы и управление/под ред. В. Е. Лепского. -2002. -№ 2. -С. 73-89.
- Бажанов В. А. Современная культурная нейронаука и природа субъекта познания: логико-эпистемологические измерения/В. А. Бажанов//Эпистемология и философия науки. -2015. -Т. XLV, № 3. -С. 133-149.
- Бажанов В. А. Феномен трансдисциплинарной когнитивной революции/В. А. Бажанов, А. Г. Краева//Российский гуманитарный журн. -2016. -Т. 5. -Вып. 2. -С. 91-107.
- Бескова И. А. Природа и образы телесности/И. А. Бескова, Е. Н. Князева. -М.: Прогресс-Традиция, 2011. -410 с.
- Булатов Д. Новое состояние живого: к вопросу о технобиологическом искусстве/Д. Булатов//Гуманитарная информатика. -2011. -Вып. 6. -С. 55-64.
- Галкин Д. В. Цифровая культура: горизонты искусственной жизни/Д. В. Галкин. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. -C. 250.
- Ерохин С. В. Теория и практика научного искусства/С. В. Ерохин. -М.: МИЭЭ, 2012. -210 c.
- Ерохин С. В. Терминология актуальной эстетики и искусствознания: «научное искусство»/С. В. Ерохин//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2012. -№ 1(15): в 2 ч. Ч. I. -C. 55-58.
- Лепский В. Е. Технологии управления в информационных войнах (от классики к постнеклассике)/В. Е. Лепский. -М.: Когито-Центр, 2016. -160 с.
- Марютина Т. М. Нейроконструктивизм -новая парадигма возрастной психофизиологии?/Т. М. Марютина//Современная зарубежная психология. -2014. -Т. 3, № 4. -С. 132-143.
- Онеггер А. О музыкальном искусстве/А. Онеггер. -Л.: Музыка, 1979. -263 с. -С. 118.
- Фаликман М. В. Когнитивная наука в XXI веке: организм, социум, культура/М. В. Фаликман//Психологический журн. Междунар. ун-та природы, общества и человека «Дубна». -2012. -№ 3. -С. 31-37.
- Цветус-Сальхова Т. Э. «Тело» и «телесность» в культурологических исследованиях/Т. Э. Цветус-Сальхова//Вестн. Томского гос. ун-та. -2011. -№ 351. -С. 70-73.
- Cartwright J. Evolution and Human Behaviour. -Houndmills: MacMillan, 2000. -127 p.
- Kisseleva О. "Nano Worlds: Custom Made", Le nouveau festival Centre Georges Pompidou, Onestarpress. -Paris, France, 2013. -223 p.
- Miller A. Colliding worlds: How cutting edge science is redefining contemporary art. -L.: W. W. Norton & Company, 2014. -235 p.
- Reichle I. Art in the Age of Technoscience: Genetic Engineering, Robotics, and Artificial Life in Contemporary Art. -Wien: Springer-Verlag, 2009. -200 p.
- Wilson S. Art + Science Now: How scientific research and technological innovation are becoming key to 21st-century aesthetics. -"Thames & Hudson", 2010. -288 p.