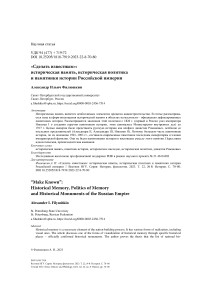«Сделать известным»: историческая память, историческая политика и памятники истории Российской империи
Автор: Филюшкин А.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Историческая память является необходимым элементом процесса нациестроительства. В статье рассматривается одна из форм воплощения исторической памяти в объектах на местности - официально зафиксированных памятниках истории. Рассматривается эволюция этой политики с 1826 г. (первый в России указ императора Николая I о создании перечня памятников истории, этим занималось Министерство внутренних дел) до 1917 г. Целью империи было представить русскую историю как апофеоз династии Романовых, особенно ее последних представителей (Александра II, Александра III, Николая II). Поэтому большую часть памятников истории, по их описанию 1901-1903 гг., составили современные памятники последним императорам и членам императорской фамилии. Они не были памятниками истории в настоящем смысле этого понятия. Перед нами идеологическая, пропагандистская кампания.
Историческая память, памятник истории, историческое наследие, историческая политика, династия романовых
Короткий адрес: https://sciup.org/147242433
IDR: 147242433 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-8-70-80
Текст научной статьи «Сделать известным»: историческая память, историческая политика и памятники истории Российской империи
Filyushkin A. I. “Make Known”: Historical Memory, Politics of Memory and Historical Monuments of the Russian Empire. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2023, vol. 22, no. 8: History, pp. 70–80. (in Russ.)
DOI 10.25205/1818-7919-2023-22-8-70-80
Необходимым компонентом нациестроительства является память о прошлом народа, о его происхождении (миф об origo gentes), о первых страницах истории, правителях и культурных героях. Эта память конструируется двумя путями. Первый – на основе воспоминаний, которые передаются из поколения в поколение и отражают реальные страницы истории (или представления о них, которые считаются реальными, восходящими к событиям прошлого). Эти воспоминания отражаются в нарративных исторических источниках, и на их основе в новое время пишутся национальные истории. Тем самым формируются знания о прошлом, на которые опираются национальные мифы, гражданское самосознание, локальный местный патриотизм. На основе этих знаний реализуется историческая политика, исторические образы вплетаются в политическую пропаганду (см., например: [Eidson, 2000; Kuzio, 2002; Van Sledright, 2008; Memory…, 2011; Allen, 2010; Wawrzyniak, Pakier, 2013; Feindt et al., 2014; Memories…, 2015]).
Но эти знания не могут быть воплощенными только в нарративе, устном рассказе, комме-морациях или пропагандистских акциях. Они нуждаются в символической визуализации [Metzger, 2018, S. 329–347]. Здесь и возникает второй путь – когда на основе исторических знаний, добытых учеными, происходит «узнавание прошлого» на местности. Происходит «открытие» мест битв, древних городов и т. д. При этом данные «открытия» могут быть связаны с традицией, историческим преданием, памятью. А могут являться конструктом, «открытием заново» своего прошлого.
Строение или местность объявляются древним памятником, его маркируют памятным знаком или закрепляют за ним определенную историю или легенду. Тем самым им присваивается историческое значение, они становятся памятниками истории [Harvey, 2001]. Они могут быть подлинным древним объектом, а могут иметь чисто символическое значение, присвоенное в новое время. И. А. Кирьянов предложил называть первый тип «памятниками-подлинниками», а второй – «памятниками символами» [1979, с. 7]. Е. В. Михайловский уточнил эту классификацию: есть памятники «преднамеренные» («сигналы для памяти») и «непреднамеренные» («кладовая памяти») [1981, с. 24].
Благодаря этим объектам возникают своего рода проекции прошлого в образы современных городов и местностей. Прошлое оживает, становится наглядным, доступным человеческому взору, воображению. Возникает «место памяти», место преклонения и воспоминания, пригодное для актов коммемораций. Комплекс таких памятников формирует в памяти поко- ления образ прошедшей эпохи. При этом памятники истории вовсе не обязательно по хронологии своего происхождения соответствуют эпохе, на которую они указывают. Например, средневековые архитектурные памятники практически никогда не доходят в первозданном виде, а почти всегда искажены поздними перестройками. Нередко значение «места памяти» присваивается позднее, когда данное событие прошлого становится значимым для потомков. Тогда оно маркируется памятниками, символическими актами (праздниками, крестными ходами и т. д.).
Понятие «памятники истории» является одним из элементов формирования исторической памяти нации [Dianina, 2010; Gervits, 2011] (обзор взглядов российских исследователей на понятие «памятник истории» см.: [Кулемзин, 2001, c. 3–66]). Процесс формирования списка памятников истории имеет три стратегии: 1) выявление памятников древности, которым потом присваивается историческое значение; 2) моделирование памятников истории с помощью разных манипуляций; 3) уничтожение этих памятников в ходе реализации политики забвения, стирания неугодного прошлого. Изучение формирование представлений о памятниках истории – это прежде всего изучение запросов национальной исторической памяти. Когда и как происходит формирование официального и «неофициального» списка памятников истории? Какие сюжеты прошлого являются важными и актуализируются в процессе этого отбора? Какой образ национального прошлого возникает на основе этих объектов? Как он соотносится с другими стратегиями формирования исторической памяти, исторической культурой эпохи?
Данная проблема применительно к истории Российской империи и СССР ставилась в основном в аспекте изучения формирования понятия «исторический памятник» (см. [Формозов, 1976; 1986; Кирьянов, 1979; Михайловский, 1981] и др.) и генезиса системы охраны памятников [Разгон, 1957; 1971; Кулемзин, 1999; Работкевич, 1999]. Данные исследования строились в основном на законодательной источниковой базе, которая опубликована (Охрана памяников, 1978). Привлекались также материалы Академии художеств. В гораздо меньшей степени исследователи обращались к архивным материалам переписей памятников истории, проводившихся МВД в 1826–1903 гг. Это связано прежде всего с их плохой сохранностью – полностью сохранились материалы только переписи 1901–1903 гг., а все предыдущие были утрачены еще в конце XIX в. 1 Их следы сохранились только фрагментарно, в виде единичных дел. При этом полностью сохранившаяся перепись 1901–1903 гг. (в фонде 1284 РГИА) практически не привлекалась историками. Данные архивные материалы дают много информации по исторической политике Российской империи начала ХХ в., формированию образов исторической памяти в центре и регионах, исторических идеалов и символов. В этом аспекте указанный исторический источник почти не изучался исследователями. Настоящей статьей предполагается сделать шаг к заполнению этого историографического пробела. Представляется полезным в перспективе издать материалы переписи 1901–1903 гг. в виде отдельной книги.
Осознание необходимости визуализации истории в памятниках истории в России пришло в конце XVIII – первой половине XIX в. Памятники предполагалось противопоставить в качестве аргумента скептикам, которые отрицали существование у России интересной истории и культурно богатого прошлого. Известный публицист Н. И. Новиков рассматривал памятники как фактор, необходимый для становления личности российского гражданина и патриота [1784, с. 28]. Позже литературный критик В. Г. Белинский сказал, что по одним только памятникам можно познать историю России [1955, с. 611]. Однако звучали и противоположные высказывания, вот, например, слова К. Н. Батюшкова: «Я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело Италия?» (цит. по: [Формозов, 1986, с. 141–142]). Дипломат Д. Н. Свербеев писал, что он «…напрасно в Пскове искал... глазами каких-нибудь следов его достопамятного по летописям прошедшего – в нём решительно не на чем было остановить внимание проезжего» (цит. по: [Формозов, 1986, с. 141–142]). Известный русский демократ А. И. Герцен отличился высказыванием о Новгороде: город «невыносимо скучен… в нем не осталось ничего старинного русского… здания, пережившие смысл свой, наводят ужас» (цит. по: [Формозов, 1986, с. 141–142]).
Подобные высказывания были во многом порождены невежеством, отсутствием знания о памятниках истории. Их просто не воспринимали как уцелевшие свидетельства былого, не определяли как визуализацию прошлого. Чтобы оно воплотилось в визуальных исторических памятниках, их надо было выявить и зафиксировать. Никаких списков достойных охраны и сбережения объектов прошлого в России вплоть до второй четверти XIX в. не существовало (о становлении системы охраны памятников истории в имперской России см.: [Разгон, 1957, с. 73–128; 1971]). Работа над их составлением на государственном уровне была начата 31 декабря 1826 г., когда вышел высочайший императорский рескрипт: «Касательно доставления сведений об остатках древних зданий в городах и о возпрещении разрушать оные». Он рассылался по гражданским губернаторам. В нем говорилось, что МВД поручено собрать сведения: «В каких городах есть остатки древних замков и крепостей, или других зданий древности, и в каком они положении ныне находятся… Воля Его Величества в то же время есть, что бы строжайше было запрещено таковые здания разрушать, что и должно оставаться на ответственности начальников городов и местных полиций». По зданиям предполагалось представить архивную справку о времени постройки, разрушениях и перестройках, строительных особенностях и т. д. (ПСЗ-2, 1830, т. 1, № 794; Охрана памятников, 1978, с. 39) 2.
Рескрипт вызвал явные затруднения на местах. До развития сколько-нибудь масштабного краеведческого движения (а о нем можно говорить не ранее середины – второй половины XIX в.) местные знания о локальных визуализациях прошлого в сохранившихся памятниках истории были на уровне сказок и легенд. К тому же местные чиновники явно опасались каких-то неприятных последствий в случае обнаружения в их губерниях памятников истории. Поэтому они на всякий случай предпочитали отчитываться в стиле, что «ничего нету» или «что-то есть, но что такое и насколько ценное – мы не знаем». Например, из ратуши Александровского посада писали: древностей не имеется «и таковых в оном никогда не существовало»; «в городе Опочке никаких древних зданий не имеется» 3. Приводится описание Пор-ховской крепости (1370-е гг.) – «крепость в Порхове есть, по какому же случаю и для какого намерения сия крепость выстроена, по всем разысканиям и выправкам открыть невозможно» 4. Тобольский губернатор описывал сохранившиеся от XVII в. «три великие шестиугольные башни на манер строящихся при деревянных церквях колоколен», но что это за башни и для чего предназначены – уже никто не знает 5.
Поэтому первые перечни, присланные в 1827–1830 гг. к императорскому двору, содержали в основном кремли и другие крепости, о которых местная администрация обладала хоть каким-то точным знанием (до их вывода за штат они функционировали как военные крепости) 6. Также туда вошли знаменитые церкви и гражданские здания (дворцы и т. д.). Древняя Россия, таким образом, представала в своем историческом образе страной крепостей, церквей и построек, символизирующих власть. Получалась почти уваровская триада «православие – самодержавие – народность», где народность визуализировалась в памятниках защиты Отечества.
3 июня 1837 г. губернаторам вменили в обязанность охрану памятников старины. В 1838 г. было издано печатное описание древнерусских крепостей и некоторых монастырей [Глаголев, 1838], на которое МВД ориентировалось как на официальный документ. В том же 1838 г. император дал особое поручение Министерству финансов провести изыскания древ- них памятников, в том числе найти замок Рюрика. Поиск объектов поручали губернским казначеям 7. Данные меры были связаны с тем, что в исполнении МВД поиск памятников русской истории явно буксовал, а Министерство финансов в силу специфики деятельности располагало более подробными и точными сведениями о недвижимости в империи. Это и предполагалось использовать.
Поиски казначеев отличались от практики чиновников МВД. Последние слабо представляли себе картину русской истории, а исходили из очевидности отнесения некоторых объектов к памятникам истории (кремли, древние храмы, дома Петра Великого и т. д.) и доступности сведений о них. Минфин предложил иной подход: нужны визуальные воплощения знаковых, символических событий русской истории, которые должны как бы узнаваться в красивых, романтичных руинах. Поэтому были «найдены» и «замок Рюрика» (им объявили руины крепости XV–XVI вв. в Старой Ладоге), и «столица Золотой Орды» (Ахтубинское городище в Саратовской губернии). Найденная там мраморная плита с крестом считалась следом православной церкви, где молились православные князья, когда ездили в Орду 8. Благодаря таким находкам и присвоению им смысла письменная история обретала визуальное воплощение в виде исторических памятников. Разочаровал только Киев: там интенсивно искали могилы первых Рюриковичей и не нашли. Пришли в выводу, что все они были утрачены во время монголо-татарского нашествия (кроме захоронения князя Владимира Крестителя, найденного еще в XVII в. киевским митрополитом Петром Могилой).
Рост знаний о памятниках позволял поставить вопрос об их государственной охране и сохранении. 31 декабря 1842 г. вышел указ о запрещении перестраивать древние церкви (ПСЗ-2, 1846, т. 17, отд. II, № 16401). 14 февраля 1848 г. Сенат запретил разрушать памятники древности (ПСЗ-2, 1852, т. 23, отд. I, № 21992). В 1857 г. вышел Cтроительный устав, который запрещал снос и перестройку зданий, возведенных до XVIII в. Первый Археологический съезд 1869 г. предложил разработать закон об охране памятников древности. Была создана Комиссия по сохранению древних памятников (Охрана памятников, 1978, с. 100). В 1877 г. Комиссия А. Б. Лобанова-Ростовского подготовила «Проект правил о сохранении исторических памятников». А. А. Формозов считал, что к началу ХХ в. в России сложилась целая наука об историко-культурном наследии [1976, с. 209].
Подготовка закона тормозилась отсутствием полного официально признанного перечня памятников истории. Документы МВД полнотой не отличались, а подход Минфина был более концептуальным и ярким, но его охват был еще меньше. В 1901 г. вышел новый циркуляр МВД об охране и выявлении памятников. Эта кампания оказалась наиболее успешной, мало того, это единственная перепись памятников истории в Российской империи, материалы которой сохранились в полном объеме. В них значатся 2 456 памятников архитектуры и 1 652 памятников истории, итого 4 108 9.
Принципы описания были обновленные, и получившиеся результаты зависели как от этих принципов, так и от ответов с мест. МВД интересовало прежде всего создание механизма защиты памятников, поэтому предлагался специальный формуляр, в котором указывалось бы, какое ведомство отвечает за памятник, в каком он состоянии, если требуется реставрация, то сколько нужно денег. К этому прилагались краткие исторические справки. Новой здесь была классификация памятников по разным ведомствам, ответственным за их учет и сохранение.
Губернаторов на местах интересовали две цели. Первая – хорошо отчитаться перед начальством, и вторая, к достижению которой стремились только отдельные губернии, – представить свою территорию в выгодном свете. Для достижения первой большинство губернаторов делали акцент на современных памятниках. В 1880–1900-е гг. в Российской империи развернулась масштабная монументальная кампания. Произошла массовая установка памят- ников последним Романовым – Александру II (с ним также связывались памятники 1911 г. к 50-летнему юбилею отмены крепостного права), Александру III и даже Николаю II (он явился первым русским правителем, который ставил памятники сам себе). Эти памятники оказались в отчетах губернаторов в фокусе внимания, хотя они не являлись на самом деле значимыми историческими памятниками. Перед нами памятники монументальной пропаганды, не связанные с локальными местами памяти и историческими событиями. К ним губернаторы добавляли разные местные объекты: триумфальные арки, возведенные в честь приезда высочайших особ или членов императорской семьи, здания и учреждения, которые они посещали во время визита, или временные монументы (тоже в основном в честь визита Романовых).
Картина по империи выходила верноподданическая, но мало соответствовавшая действительности. Получалось, что главное событие во многих губерниях – визит членов императорской фамилии или просто установка памятника в честь императора. Очень показательно, что такой картины не было в описаниях памятников ни в Москве 10, ни в Петербурге 11 – там перечислялись действительно важные исторические объекты. Пропагандистский официоз оказался уделом провинции, российской глубинки. Страна изображалась как территория, на которой живут подданные, в первую очередь чтящие своего царя. Насколько эта установка оказалась иллюзорной, вскоре продемонстрируют события Февральской революции 1917 г. Вся монументальная пропаганда Романовых последних десятилетий правления оказалась неэффективной.
Что же касается попыток яркой презентации своих губерний, то они оказались успешными там, где у властей были тесные контакты с местными краеведами и где губернаторы обратились к интеллигенции для подготовки материалов. Например, описание памятников истории Нижегородской губернии, было подготовлено Нижегородской ученой архивной комиссией (НУАК) 12.
Вторая сфера, где, судя по описаниям памятников, активно моделировалась визуализация, – это имперские окраины. Здесь создание визуального исторического ландшафта отвечало задачам имперского строительства. В первую очередь маркировались памятники, символизировавшие русское присутствие в регионе: сооружения в честь последних Романовых, памятники офицерам и солдатам, погибшим при присоединении этих земель, мемориалы, связанные с политиками («землянка Ермолова» и т. д.). Интересно, что в целом ряде пунктов имперских окраин были установлены памятники в честь 900-летия Крещения Руси, хотя в 988 г. эти территории не имели к Киевской Руси никакого отношения (например, в Семипалатинской области) 13.
Во вторую очередь надо было решить, что делать с местными, национальными памятниками имперских окраин. У них было свое прошлое, воплощенное в символических объектах. По отношению к ним была разная политика. Где-то они просто замалчивались, не замечались – например, в описании Самаркандской области отсутствует крепость Бухары, обсерватория Улугбека и т. д. 14 В случае когда памятники древности не замалчивались, они изображались как нечто чуждое, непонятное, по всей вероятности – варварское (ср. описание в Баку объектов, связанных с огнепоклонниками).
Однако так можно было писать об азиатских и кавказских владениях империи, но эта модель не работала в отношении Западных окраин и Прибалтики. Замки рыцарей и польские костелы нельзя было объявить непонятными и варварскими, и не учитывать их также было бы слишком нарочито. Поэтому здесь применялся другой подход: описывались памятники средневековой истории (замки, крепости, древние церкви и т. д.), преимущественно связан- ные с эпохой Немецкого ордена (память о нем считалась неопасной для русской истории). Затем следовала лакуна, в которой оказывались объекты XVI–XVIII вв., эпохи основных конфликтов между Россией, Ливонией, Речью Посполитой (вплоть до разделов Польши и наполеоновских войн). А вот затем на страницах описи опять начинают фигурировать памятники истории уже XIX в., связанные большей частью с российским владычеством (памятники императорам и т. д.). История Ноябрьского (1830–1831) и Январского (1863) польских восстаний воплощалась в памятниках российским воинам, погибшим при подавлении мятежа 15. Тем самым за этими землями признавалось право на древнюю и средневековую историю, визуализированную в замках и других символах средневековья, и на историю в составе Российской империи. Однако в памятники истории старались не вносить объекты, которые напоминали бы о недавнем суверенном прошлом Польши, Литвы, Лифляндии и Курляндии (анализ стратегий отбора и описания памятников истории по губерниям Российской империи по переписи 1901–1903 гг. с перечнями памятников см.: [Мобилизованное Средневековье, 2022, с. 213–230]).
Перепись памятников истории 1901–1903 гг. отразила новые тенденции в исторической политике Российской империи. Первоначальным мотивом обращения к выявлению памятников истории в 1826 г. было стремление к реконструкции величественного прошлого России через фиксацию сохранившихся с древности материальных объектов. Им присваивалось мемориальное значение, они становились визуальными символами русской истории. Но в основе в любом случае лежало выявление, каталогизация действительных средневековых построек и памятных мест. Перепись 1901–1903 гг. демонстрирует нам другой подход: произошло расширение понятия «памятники истории» на объекты ХIХ–ХХ вв., помимо учета древних памятников и подготовки в 1911–1912 гг. законодательства по их охране (анализ разработки законодательства и работы Комиссии см.: [Работкевич, 1999, с. 150–181]) 16, причем с участием исторических обществ и других общественных организаций [Pravilova, 2014]. Закон не успели принять из-за начавшейся в 1914 г. Первой мировой войны. Происходило оформление современного правления династии Романовых как значимого исторического события [Леонтьева, 2016]. Апофеозом здесь скоро станет празднование 300-летия династии в 1913 г. Перед нами понимание исторических памятников как инструмента пропаганды, посредством которой можно смоделировать воображаемый исторический ландшафт, задать определенные идеологические смыслы. Правда, необходимо констатировать провал этой пропаганды: как известно, историческая политика последних Романовых не спасла их от трагических событий 1917–1918 гг. А на постаментах сброшенных памятников царям новая власть ставила монументы новым вождям и героям Гражданской войны.
В заключение необходимо обратить внимание, что СССР во многом унаследовал и начиная с 1960-х гг. реанимировал подход Российской империи к использованию памятников истории как способу визуализации исторической политики. Тема учета и охраны памятников истории и культуры в СССР очень обширна и требует отдельного исследования, поэтому ограничимся некоторыми общими наблюдениями, важными для сравнения с аналогичными процессами в дореволюционной России. В СССР составлялся «Свод памятников истории и культуры» по областям и республикам. В нем мы видим узнаваемые черты: избирательность в отборе памятников, выход на первый план идеологических символов режима. Основную массу учтенных памятников составляли братские могилы героев Гражданской войны и Великой Отечественной войны, памятники героям первых пятилеток и социалистического строительства, могилы и места жительства Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и кавалеров Ордена Славы трех степеней, места, связанные с руководителями партии и правительства, и т. д. Как и в случае с описанием 1901–1902 гг., без проблем учитывались средневековые памятники (древность была безопасной), но включение в Свод памятников XIX – начала XX в., таких, как церкви, помещичьи усадьбы и т. д. требовало дока- зательства их исторической или архитектурной ценности. Правда, в Свод попадали многие местные объекты, связанные с социальной историей: административные здания, земские школы, дореволюционные здания заводов и т. д. В этом плане круг учитываемых объектов был расширен по сравнению с описанием 1901–1903 гг.
Еще одно сходство исторической политики императорской России и СССР, визуализированной в описании / Своде памятников истории, было в проявившейся неэффективности этого инструмента в идеологической сфере. Роль монументов Советской власти оказалась, как и памятников Романовым в императорской России, очень краткосрочной и не работающей на длительную мемориальную и пропагандистскую перспективу. Судьба памятников Ленину и другим партийным деятелям оказалась аналогичной судьбе памятникам последним Романовым.
Список литературы «Сделать известным»: историческая память, историческая политика и памятники истории Российской империи
- Белинский В. Г. Сочинения Державина // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 6. С. 582-658.
- Глаголев А. Г. Краткое обозрение древних русских зданий и других отечественных памятников, составляемое при Министерстве внутренних дел А. Глаголевым. СПб.: Тип. МВД, 1838. Ч. 1. Тетр. 1: О русских крепостях. 52 с.
- Кирьянов И. А. Классификация, принципы отбора и выявления памятников трудовой славы советского народа // Памятники трудовой славы советского народа. Горький, 1979. С. 5-7.
- Кулемзин А. М. Охрана памятников в России. Томск: Изд. МУ «Томск исторический», 1999. 159 с.
- Леонтьева О. Б. Как реформа стала Великой: отмена крепостного права как «место памяти» в исторической культуре императорской России // Диалог со временем. 2016. Вып. 56. С. 229-245.
- Михайловский Е. В. Реставрация памятников архитектуры // Восстановление памятников культуры: проблемы реставрации. М., 1981. С. 20-37.
- Мобилизованное Средневековье: В 2 т. / Под ред. А. И. Филюшкина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022. Т. 2: Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России. 523 с.
- Новиков Н. И. Общие замечания о путешествиях // Покоящийся трудолюбец. СПб., 1784. Ч. 2. С. 125-134.
- Работкевич А. В. Государственная политика в области охраны памятников истории и культуры в России в XVIII - начале XX века: Дис. … канд. культурологии. М., 1999. 295 с.
- Разгон A. M. Охрана исторических памятников в дореволюционной России (1861-1917) // Труды НИИ музееведения. 1957. Вып. 1: История музейного дела в СССР. С. 73-128.
- Разгон A. M. Охрана исторических памятников в дореволюционной России (XVIII в. - первая половина XIX в.) // Тр. НИИ культуры. 1971. Вып. 7: Очерки по истории музейного дела в России. С. 292-365.
- Формозов А. А. Когда и как складывались современные представления о памятниках русской истории // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 203-209.
- Формозов A. A. Страницы истории русской археологии. М.: Наука, 1986. 240 с.
- Allen D. New Directions in the Study of Nation-Building: Views through the Lens of Path Dependence // International Studies Review. 2010. Vol. 12, no. 3. P. 413-429.
- Dianina K. The Return of History: Museum, Heritage, and National Identity in Imperial Russia // Journal of Eurasian Studies. 2010. Vol. 1, no. 2. P. 111-118.
- Eidson J. Which Past for Whom? Local Memory in a German Community during the Era of Nation Building // Ethos. 2000. Vol. 28, no. 4. P. 575-607.
- Feindt G., Krawatzek F., Mehler D. Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies // History and Theory. 2014. Vol. 53, no. 1. P. 24-44.
- Gervits M. Historicism, Nationalism and Museum Architecture in Russia from the 19th to the Turn of the 20th Century // Visual Resources. 2011. Vol. 27, no. 1. P. 32-47.
- Harvey D. Heritage Pasts and Heritage Presents: Temporality, Meaning and the Scope of Heritage Studies // International Journal of Heritage Studies. 2001. Vol. 7, no. 4. P. 319-338.
- Kuzio T. History, Memory and Nation Building in the Post-Soviet Colonial Space // Nationalities Papers. 2002. Vol. 30, iss. 2. P. 241-264.
- Memories of Post-imperial Nations: The Aftermath of Decolonization, 1945-2013 / Ed. by D. Rothermund. Heidelberg: Universität Heidelberg, 2015. 212 p.
- Memory: Histories, Theories, Debates / Ed. by S. Radstone, B. Schwarz. New York: New York Fordham Univ. Press, 2011. 561 p.
- Metzger F. Devotion and Memory - Discourses and Practices // Kirchliche Zeitgeschichte. 2018. Bd. 31. H. 2. S. 329-347.
- Pravilova E. A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia. Princeton: Princeton Uni. Press, 2014. 435 p.
- Van Sledright B. Narratives of Nation-State, Historical Knowledge, and School History Education // Review of Research in Education. 2008. Vol. 32. P. 109-146.
- Wawrzyniak J., Pakier M. Memory Studies in Eastern Europe: Key Issues and Future Perspectives // Polish Sociological Review. 2013. No. 183. P. 257-279.