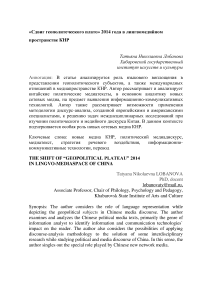«Сдвиг геополитеческого плато» 2014 года в лингвомедийном пространстве КНР
Автор: Лобанова Татьяна Николаевна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Статья в выпуске: 10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль языкового воплощения в представлении геополитического субъектов, а также международных отношений в медиапространстве КНР. Автор рассматривает и анализирует китайские политические медиатексты, в основном аналитику новых сетевых медиа, на предмет выявления информационно-коммуникативных технологий. Автор также рассматривает возможности применения методологии дискурс-анализа, созданной европейскими и американскими специалистами, к решению задач междисциплинарных исследований при изучении политического и медийного дискурса Китая. В данном контексте подчеркивается особая роль новых сетевых медиа КНР.
Новые медиа кнр, политический медиадискурс, медиатекст, стратегия речевого воздействия, информационно-коммуникативные технологии, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/14752423
IDR: 14752423
Текст научной статьи «Сдвиг геополитеческого плато» 2014 года в лингвомедийном пространстве КНР
Изучение языка СМИ приобретает все большую актуальность в России в последнее время, в особенности в условиях экспортируемой нам англосаксонским и азиатским сообществами информационной войны.
«Медиасреда – это специфический локус самопредъявления текстовой метасферы: здесь сегодня творится текстовая история мира, хранящая множественные геолингвокультурные проявления образов-архетипов человеческого сознания»1.
Политическая лингвистика и медиалингвистика как междисциплинарные отрасли со своей методологией позволяют проводить исследования, цель которых заключается в целостном анализе формирования Китаем политик в отношении России и других стран с применением дискурсивного подхода, с последующей реакцией на возможное совершение Китаем и другими государствами действий во внешней политике, затрагивающих российские интересы2.
Язык СМИ – живая, динамичная и чувствительная субстанция, отражающая новые идеологические установки или общественнополитические преобразования. Современные информационные технологии и коммуникации позволяют специалистам использовать множество инструментов для информационно-коммуникационного взаимодействия с целевыми аудиториями, определять формат и специфику такого взаимодействия3.
Отсутствие комплексных исследований современного китайского политического языка и лингвомедийных технологий КНР на фоне интенсивной медиатизации политических коммуникаций в условиях геополитических изменений 2014 г., спровоцированных украинским кризисом, обуславливает актуальность поднимаемой нами темы. Интерес к этой междисциплинарной проблеме обусловлен тем, что СМИ являются одним из способов инициирования, предотвращения и урегулирования конфликтов. СМИ способны наносить медийные удары и способствовать эскалации конфликтов, но также участвовать и в миротворческих процессах.
Целью статьи является анализ языка новых медиа КНР в период вооруженного конфликта на Украине 2014 г. и развязанной информационной войны с противостоянием групп сил: Украина-США и Китай-Россия с выявлением специфически китайских лингвомедийных средств и технологий. Учитывается, что Китай, не являясь прямой стороной конфликта, выступает ареной сложной геополитической борьбы.
Сегодня, в период информационной войны, основным каналом коммуникации выступают международные компьютерные сети, которые способны обеспечить практически моментальное перемещение любой информации: интернет-сервисы позволяют людям принимать участие в создании информационного универсума. «Бурное развитие информационных технологий к конце XX века вызвало трансформацию вооруженных сил в различных частях мира и привело к появлению новых стратегических категорий в организации и применении вооруженных сил в операциях XXI века. К таким категориям относится «информационное противоборство», «информационные операции», «кибервойна»4.
Тематику информационных войн китайцы разработали основательно и давно: речь идет о конкуренции с США. Китайцы, если нащупывают какую-то тему, начинают конкурировать и вытеснять остальных с рынка. Согласно гипотезе, выдвинутой в работе «Информационная война Китая: призрачная опасность или нарождающаяся угроза» экспертом Института анализа иностранной политики по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Тоши Ешихара, китайская информационная война нацелена на разрушение у противника процесса выработки и принятия управленческих решений за счет воздействия на возможности противника получать, обрабатывать, передавать и использовать информацию»5. Китайские военные аналитики относят информационное противоборство к боевым операциям, при активном участии в них целевых аудиторий, с применением высоких технологий, в которых обе стороны используют информационные технологии (средства, оборудование или системы) для управления и получения информации противника. Информационная операция нацелена на перехват инициативы у противника, захват, управление, и использование его информации и средств для своей стороны в информационном противоборстве6.
«Развитие технических средств связи постоянно расширяет как общий объем текстопроизводства в сфере массовой коммуникации, так и совокупный объем повседневного речепользования. Особая роль в этом процессе несомненно принадлежит непрерывному текстообмену в виртуальном пространстве: интернет-версии традиционных СМИ, онлайновые медиа, блоги, социальные сети, и т.п. тысячекратно увеличивают количество ежечасно производимых текстов. Для описания нового типа мультимедийных текстов, органично сочетающих черты традиционных средств массовой информации с возможностями новейших информационных технологий, включая различные виды мобильной телефонии, используется специальный термин – конвергентные тексты»7.
Феномен “new media practices” исследуется американскими учеными8. Большое значение приобретают исследования, основу которых составляют методологии критического дискурс-анализа Н. Фэрклоу9, анализа дискурса Р. Водак 10, а также метафорическое моделирование и другие методики изучения языка СМИ. Актуализируются новые концепции изучения журналистского газетного текста11. Во многих публикациях методика концептуального анализа метафор в политическом дискурсе дополняется методами критического дискурс-анализа и сочетается с гуманистическим осмыслением анализируемых событий12. Актуальны исследования журналистов информационнокоммуникационного пространства России в период геополитических изменений13. Изучению политического дискурса в России посвящены работы А.Н. Баранова, Е.Г. Казакевича, В.З. Демьянкова, Г.Я. Солганик, Е.А. Кожемякина, А.Н. Алексахина, О.Н. Морозовой, А.П. Чудинова, Э.В. Будаева, В.Е. Чернявской, В.В. Богуславской, О.Н. Паршиной, М.Р. Желтухиной, Н.А. Купиной, Е.И. Шейгал, Н.С. Рядовой, А.Н. Потсар и др. «Большинство политлингвистических исследований проводится на основе анализа медийного дискурса»14; «медиадискурс обладает весьма мощной и разветвленной онлайн- и оффлайн-жанровой системой, включающей тексты различной жанровой природы, что обусловлено стратификацией глобальной коммуникативной интенции оказания речевого воздействия на ряд частных микроинтенций»15.
Важное положение теории медиадискурса состоит в том, что дискретной единицей медиадискурса является медиатекст. Медиатекст, рассматриваемый учеными-лингвистами, журналистами, политологами как наиболее влиятельный канал воздействия, средство формирования национальной концептосферы и ключевой инструмент политической коммуникации, зачастую выступает единицей анализа. По Т.Г. Добросклонской, концепция медиатекста выходит за пределы знаковой системы вербального уровня, приближаясь к семиотическому толкованию понятия «текст»16. При работе с медиатекстами и переводе необходимо знание историко-контекстуального фона: особое значение имеют политологические исследования в области конфликтологии и истории китайско-американских и российско-китайских отношений. Монографии и публикации Ю.М. Галенович, Я.М. Бергера, А.П. Девятова, А.М. Байчорова, О.А. Тимофеева, А.М. Лоханина, Ф. Бергстена становятся востребованными в данном контексте для дальнейшего изучения языковых явлений и лингвомедийных технологий.
«Сдвиг геополитического плато» в статье подразумевает процессы, явления и события в 2014 г., спровоцировавшие отрицательный баланс в соотношениях сил США-Россия-Китай и развязанную в связи с этим войну в СМИ.
Благодаря бурному экономическому росту у современного Китая появляется все больше ресурсов для решения своих геополитических и экономических интересов далеко за пределами АТР. Обозначились вопросы научной «повестки дня» у политологов, медийщиков, лингвистов и аналитиков: лучше ли китайская гегемония американской и как Китай воспринимает Соединенные Штаты и Россию в свете событий 2014 г.? «Западные аналитики любят задаваться вопросом: с кем тогда будет Россия? Ее позиция, по мнению многих, ключевая. Китай не сможет стать «сверхдержавой» без России: экономическая мощь не конвертируется в политическую. …Если Россия с Западом, то доминирование Китая невозможно. Вместо предполагавшейся аналитиками битвы за Россию начинается битва против России»17. Китаизация преподносится миру под эгидой альтернативы однополярному миру: определились и союзники КНР, главным образом, из объединения БРИКС. США воспринимает КНР как своего главного антагониста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринимает политику «сдерживания через интеграцию»18.
Китай как глобальный геополитический игрок выходит на лидирующие позиции в сфере информационных технологий. То, что мы подразумеваем под понятием «китайская специфика» необходимо воспринимать с точки зрения всепроникающего влияния этих технологий и правил рыночной экономики.
Проблематика китайско-американских, равно как и китайско-российских отношений, подходы Китая к актуальным международным проблемам серьезно интересуют общественность и СМИ КНР19.
Так, еще в 2009 г. в Китае вышла книга “ 中国不高兴。大时代、大目标及我们的内与外环 ” 20 [Китай недоволен. Великая эпоха, великие цели и наши внутренние и внешние неурядицы] 21. Почему Китай недоволен? События 14 марта 2008 года в Лхасе показали, что Запад конкретными действиями и все более разнузданно осуществляет стратегию окружения Китая. В книге авторы – военные аналитики – упоминают «информатизированную войну»: «… То, что произошло после 1990-х годов, учило китайцев ориентироваться на информатизированную войну. Даже книжные магазины полны книг о такой войне». С точки зрения авторов, понятия «война» бояться не следует. Наоборот, «война» – это жизнь Китая. Для того чтобы жить, надо обеспечить себе выигрыш в торговой войне. Страна должна работать на торговую войну, потому что это – великая цель. Авторы книги приходят к мысли, что будущие войны будут некими идеализированными технологическими войнами, войнами информатизированных военных технологий22.
Курс на расширение своего влияния в регионе и мире Китай прокладывает осмотрительно. Дипломатия КНР стремится избежать конкуренции с Россией: ШОС и БРИКС – средства сохранить статус-кво и не допустить перехода к «жесткой конкуренции». «Мягкая сила» в Китае должна служить возвышению «твердой силы». Россия испытывает естественную потребность в поддержании стабильных и эффективных политических, экономических и культурных отношений с Китаем, крупнейшим и географически близким к России союзом государств. Особым фактором, определяющим интенсивность взаимодействия России с КНР, является украинский кризис 2013-2014 гг., встреча руководителей стран-участниц БРИКС, создание нового банка и, как следствие, новый насыщенный уровень отношений. Взаимодействие КНР и РФ в области безопасности проявляется в близости понимания многих международных проблем и взаимном уважении интересов друг друга23.
Проблема отбора материалов для анализа во многом обусловлена фактором доступности к ресурсу. Сегодня как никогда важно иметь наработки или разработки в области оперативного мониторинга СМИ и соцмедиа. Речь идет о системах, позволяющих медийщикам, исследователям, аналитикам, вынужденным «прокачивать» большие информационные потоки, «фильтровать» информацию и быть в курсе медиатопиков. В нашем случае такими инструментами могут выступить сайт РИА Новости ИноСМИ24, всемирная справочная служба foreigntrade.polpred.com25, а также интернет-версии центральных китайских периодических изданий 《人民日报》、《环球时报》 . Эти ресурсы представляют собой источниковую базу информации, согласованную с официальной позицией КНР.
Обратимся к примерам. Сегодня не угасает риторика китайских СМИ по медиатопикам «нарушение норм поведения в международном пространстве и водах» и «военно-политическое противостояние США и КНР». Так, в статье «Китайской разведке необходимо как можно скорее попасть в прибрежные воды США» 26 китайского центрального издания «Хуаньцю шибао» утверждается: «США заявляют, что не планируют сдерживать Китай , КНР говорит, что не намерен «выдворять» Америку из Азии . …Штаты надеются сохранить абсолютное преимущество над Китаем, Китай , в свою очередь, хочет максимально сократить разницу в силе . Между Пекином и Вашингтоном нет согласия, поэтому необходимо «притереться» друг к другу ».
В вопросах китайско-американских отношений показателен выводной абзац статьи « Прощай, эпоха безраздельной власти США» : 27 «Внешняя политика КНР проявляется в экономическом расширении.
Этот подход создал для нас такую модель оказания влияния на весь мир, какой не было ни у США, ни у СССР, ни у России. Сегодня она дает нам возможность еще сильнее укрепить свое влияние на задворках Америки и в покинутой ею Африке. Может ли американская стратегия сдерживания Китая предложить Вашингтону какие-то меры противодействия политике Пекина? Нет. Сегодня США и их последователи, включая Японию, изо всех сил стараются поспеть за Китаем, тужатся , пытаясь нанести контрудар, однако КНР спокойно продолжает развертывать свою стратегию. … мышление в духе эпохи безраздельной власти США может в любой момент оказаться на свалке истории ».
Оценка внешнеполитической линии КНР дана в статье « Не время смеяться над Америкой» 28: «Поэтому, если оценивать ситуацию со стратегической точки зрения, сейчас необходимо, чтобы Китай сообща с Америкой боролся с терроризмом, а не высмеивал США за политические промахи.... Важнее всего здесь то, что Америка должна признать, что она нуждается в поддержке КНР. США просто не может в одиночку орудовать в близком к Китаю регионе. И Китай, и США – могущественные державы, а не неразумные дети , поэтому нам не пристало делать все, что вздумается».
В статье электронного издания «Хуаньцю шибао» «Пора готовиться к Третьей мировой» 29 утверждаются геополитические расклады КНР в случае войны: «…в эпоху новой мировой войны, Китай как раз находится в том регионе, за который идет борьба. Это опять же вынуждает его развивать свою военную мощь, ориентируясь на войны мирового масштаба. …развитие его морской мощи заставляет нервничать остальные страны … Это приведет к тому, что в плане военно-морского и воздушного потенциала КНР вновь окажется на задворках истории . Китай не может вновь стать пассивным участником игры ».
Отобранные сплошной выборкой медиатексты за период июль-сентябрь 2014 г., посвященные различным аспектам международных отношений, демонстрируют информационно-интерпретационную стратегию политического дискурса. В избранных для анализа медиатекстах используются различные речевые стратегии и тактики, реализующие манипулятивные цели, ядерное место среди которых занимают стратегия манипуляции, стратегия дискредитации, стратегия формирования эмоционального настроя, стратегия нападения, агитационная стратегия, стратегия саморепрезентации. При изучении медиатекстов методики «традиционного» лингвостилистического анализа текста не утрачивают своей актуальности, а становятся составным компонентом критического дискурс-анализа: «…только сочетание преимуществ различных методологических подходов позволяет получить всестороннее представление как об особенностях функционирования языка в сфере массовой коммуникации»30, так и необходимое гуманитарное знание. Среди методов наиболее актуальны группа собственно лингвистических методов31; методы критической лингвистики32; когнитивное моделирование информационного пространства с привлечением методологии лингвосоциокультурного анализа журналистских текстов33. Диапазон лингвомедийных технологий также необычайно широк. Такое сочетание лингвистических средств с медийными значительно усиливает общий эффект воздействия, способствуя запоминанию ярких образов34. Так, например, цена непонимания метафорики в политическом дискурсе достаточно высока. «Критические лингвисты» предлагают по метафорическому следу воссоздавать образы разных регионов мира или международных отношений35. Основную сложность при переводе являет собой метафора, как основное средство создания образности в политическом тексте. Метафора выступает аксиологическим центром текста и представляет фокус авторской оценки.
Китайский политический медиадискурс ясно показывает борьбу КНР за удержание доминирования в АТР в интересах своей страны. Азия в лице КНР представляет символ все более впечатляющего экономического успеха, социальный вулкан и воплощение политического риска: роль КНР как глобального игрока очевидна. Политический язык китайских медиа позволяет обнаружить примеры прямого информационно психологического противостояния КНР и США. Аксиологически полюсное представление образов членов триады США-Россия-Китай в медиатекстах в том, что политика Китая в отношении РФ и в отношении США уже не может больше оставаться пассивной и приобрела очертания активно занимаемой позиции.
Заметен интерес к проблемам «нового Троецарствия» и языкового манипулирования в СМИ со стороны политологических факультетов. Вектор дальнейших исследований будет больше находиться в плоскости «Китаизация vs американизация». Перспективны также исследования, связанные с вопросами экологии медиапространства и текстопорождения в массмедиа.
Список литературы «Сдвиг геополитеческого плато» 2014 года в лингвомедийном пространстве КНР
- Абрамов В.Г. СМИ как инструмент информационно-коммуникационного воздействия на общественное сознание (вопросы теории). . URL: http://mic.org.ru/8-nomer-2014/293-smi-kak-instrument-informatsionno-kommunikatsionnogo-vozdejstviya-na-obshchestvennoe-soznanie-voprosy-teorii (дата обращения: 04.09.2014).
- Байчоров А.М. Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке. -М.: Международные отношения, 2013.
- Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и практика. -М.: Флинта: Наука, 2011.
- Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. Анализ журналистских текстов. -М.: Изд-во ЛКИ, 2013. -280 с.
- Будаев Э.В., Чудинов А.П. Зарубежная политическая лингвистика. -М.: Флинта: Наука, 2008.
- Добросклонская Т.Г. Лингвистические способы выражения идеологической модальности в медиатекстах//Вестн. Моск. ун-та. Сер.19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2009. -№ 2. Д
- обросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации. -М.: КДУ, 2012.
- Ковалева Т.С. Стратегия манипуляции в информационной войне (на материале текстов Иносми, посвященных Южноосетинскому/Грузинскому конфликту 2008 г.). -Политическая лингвистика. -3 (37). -2011. -С. 78-86.
- Корф О.В. Медиатекст как инструмент формирования дискурса в политическом конфликте: на примере конфликта 1994-1996 гг. в Чеченской Республике: автореф. дисс. … канд. полит. наук/Корф Ольга Викторовна. -М., 2009.
- Лобанова Т.Н. Медиатексты политического дискурса Китая в условиях украинского кризиса: опыт сопоставительного и дискурсивного анализа//Тренды и управление. №3(7)2014.
- Лоханин А.М. Политика США в отношении КНР (1993-2000 гг.). Проблемы военно-политической безопасности: автореф. дисс. … канд. ист. наук/Лоханин Антон Михайлович. -М., 2006.
- Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. -М.: ЛЕНАНД, 2014.
- Швидунова А. СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий. . URL: http://www.pr-club.com/pr_lib/pr_raboty/earlier/techn_13.htm (дата обращения: 23.02.2014).
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. -М. -Волгоград: ИЯ РАН; Перемена, 2000.
- Fairclough Norman, Wodak Ruth. Critical Discourse Analysis//Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 2. Discourse as Social Interaction. London: Thousand Oaks. 1996.
- Fairclough N. Critical Discourse Analysis. London. 1995.
- Hall, J. Christopher, Smith H. Patrick. Mapping Applied Linguistics. London and New York: Routledge, 2011.
- Wallis C. New Media Practices in China: Youth Patterns, Processes, and Politics//International Journal of Communication. -5. 2011.
- Wodak R., Meyer M. Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 2001.