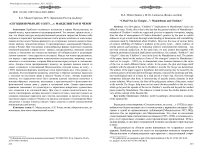"Сегодня ночью, не солгу...": Мандельштам и Чехов
Автор: Минц Белла Александровна, Ларионова Марина Ченгаровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблема «чеховских» подтекстов в лирике Мандельштама, на первый взгляд, представляется трудноразрешимой. Это связано, прежде всего, с тем, что общие контуры мандельштамовской рецепции творчества Чехова слабо очерчены и порождают противоположные точки зрения, колеблясь от идеи непризнания поэтом опыта Чехова-драматурга до осторожных попыток выявить более полно картину немногочисленных и противоречивых высказываний Мандельштама о Чехове. При этом вопрос о разнообразных формах творческого усвоения чеховской традиции в лирике поэта - прямых, опосредованных, имеющих схожий генезис и типологию или свидетельствующих об избирательном и целенаправленном освоении - пока серьезно не поставлен. Между тем можно предположить, что наряду с ярко проявленными классическими подтекстами, например, «пушкинским» и «гоголевским», в лирике Мандельштама присутствуют и «чеховские» ноты. Авторы статьи предпринимают попытку на примере анализа одного из самых «странных» стихотворений Мандельштама «Сегодня ночью, не солгу.» (1925) продемонстрировать некоторые точки пересечения двух столь разных художников. В стихотворении выявлены сюжетные и образно-мотивные параллели с эпизодом на постоялом дворе в повести Чехова «Степь». Авторы выдвигают гипотезу, что переклички могут быть вызваны единым генезисом сюжетных и мотивно-образных элементов, восходящих к архетипической и фольклорно-мифологической топике дома у дороги и колдовской избы. Однако пристальное сравнение показывает, что существуют и переклички конкретных художественных элементов в их системной связи. При этом те линии полигенетичного подтекста стихотворения, которые восходят к повести «Степь», помогают увидеть не слишком очевидные параллели двух текстов, выходящие за пределы эпизода на постоялом дворе в повести Чехова и за пределы изучаемого стихотворения Мандельштама. Сделана попытка увидеть черты сходства в самой художественной концепции русской жизни.
О. мандельштам, а.п. чехов, мотив, оборотничество, демонизация, константы национальной жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/149136581
IDR: 149136581 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00045
Текст научной статьи "Сегодня ночью, не солгу...": Мандельштам и Чехов
Балладное стихотворение «Сегодня ночью, не солгу...» (1925) (в дальнейшем мы будем называть его в соответствии с вариантом заглавия «Цыганка» в одной из прижизненных публикаций [Мандельштам 1927, 80]), казалось бы, не характерно для Мандельштама. Это одно из последних стихотворений перед пятилетним молчанием (1925-1930), в течение которого поэт продолжал создавать свои прозаические произведения. И балладная форма, и сам факт пограничной позиции заставляют приглядеться к нему.
Исследователи не обошли своим вниманием это «странное» стихотворение. Наиболее полно его место во внутреннем контексте творчества Мандельштама и общекультурном пространстве с актуализацией совре-
** The publication was prepared as part of the implementation of the ST of the SSC RAS, no. project’s AAAA-A19-119011190182-8.

менной поэту эпохи показал СТ. Шиндин [Шиндин 1997]. В значительно расширенном виде этот материал представлен в его другой публикации [Шиндин 2017]. Им выделена «универсальная культурная модель “пира во время чумы”, но в отечественном варианте, представленном темой уходящей литературной эпохи и той литературной-художественной среды, которая с ней соотносилась» [Шиндин 2017, 59]. Через сложнейшие ассоциативные ходы, подключая широкий круг текстов Мандельштама и его современников, С.Г. Шиндин выходит на параллели с историей знаменитой «Бродячей собаки».
Иной подход демонстрирует И.З. Сурат, рассматривая «Цыганку» в ряду стихотворений, в которых сон дан как сюжет в сюжете [Сурат 2020, 183-186]. Она предлагает детальный анализ самого текста и убедительно показывает, что наиболее важными в интертекстуальной структуре этого стихотворения следует считать пушкинские тексты: балладу «Жених», сон Татьяны из пятой главы «Евгения Онегина», а также, в качестве периферийных подтекстов к отдельным элементам «Цыганки», - сцену «Корчма на литовской границе» из «Бориса Годунова» и фрагмент из «Путешествия в Арзрум».
Сделанные наблюдения о литературных параллелях можно дополнить ещё одним. Своей символикой постоялого двора «Цыганка» вызывает ассоциации с важнейшим фрагментом чеховской повести «Степь», а именно с эпизодом на постоялом дворе. Как представляется, возникшие ассоциации базируются, прежде всего, на архетипической и фольклорно-мифо-логической природе мотива «дома у дороги» [Ларионова 2018], однако не исключено, что речь может идти о более тесных и конкретных формах литературного взаимодействия.
Если присутствие Пушкина в художественном мире Мандельштама достаточно хорошо изучено, то проблема «Мандельштам и Чехов» пребывает на периферии мандельштамоведения и провоцирует полемику. Споря с авторами, которые причисляют Мандельштама к тем, кто не любил Чехова [Кушнер 2002; Брюханов 2012 и др.], П.М. Нерлер вглядывается в высказывания поэта о Чехове более пристально и приходит к выводу, что Чехов бесспорно входит в круг уважаемых поэтом авторов, а критика Мандельштама в его наброске 1935 г. [Мандельштам 2009-2011, III, 334-336] скорее направлена на театральную интерпретацию, нежели на самого Чехова [Нерлер 2014].
Немногочисленные высказывания Мандельштама о Чехове нужно воспринимать в определённом творческом контексте, будь то конкретная литературно-критическая задача в письме писателю или черновая запись о театральной постановке. Эти высказывания не отражают общего отношения к Чехову. Бесспорно, что детство и отрочество Мандельштама пришлись на эпоху, которую можно назвать «чеховской», и это не могло не отразиться на месте Чехова в творческом сознании поэта. Вот как начинается его «Шум времени»: «Я помню хорошо глухие годы России - девяностые годы, их медленное оползанье, их болезненное спокойствие, их глубокий

провинциализм - тихую заводь: последнее убежище умирающего века» [Мандельштам 2009-2011, II, 206]. В лёгкой иронии пассажа об Острогорском обращает на себя внимание связь человечности с насмешливостью. «Чеховская невообразимая улыбка» чудится ему в любимом директоре Тенишевского училища, и эта улыбка витает над школой как дух интеллигентности и гуманности [Мандельштам 2009-2011, II, 232].
Можно предположить, что отношение Мандельштама к театру и прозе писателя разнились. В прозе он ценил то, что Чехов «бесстрашно, спокойно и тщательно изображает врача, инженера и личность крестьянина» [Мандельштам 2009-2011, III, 176], что его творчество лишено идеологической предвзятости, писатель видит в каждом своём герое человека как такового. Чеховскую драматургию поэт не принял, подходя к ней с точки зрения привычных критериев драматического искусства: «Биолог назвал бы чеховский принцип экологическим. Сожительство для Чехова - решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими отсюда неприятностями» [Мандельштам 2009-2011, III, 334]. Возможно, что в этих черновых заметках отразилось отношение не только к чеховскому театру, но и к самой запечатлённой им жизни, которую Мандельштам воспринимал когда-то детским взором и которой остался чужд как человек другого поколения. Приведённые свидетельства не сводятся в единую картину.
В этой статье речь пойдёт о художественных параллелях, которые возникают независимо от эстетических притяжений и отталкиваний, появляются в сознании воспринимающего, а, возможно, и в сознании или бессознательном автора, в силу мощной энергии, излучаемой литературным произведением, в данном случае, повестью «Степь».
Приведём текст стихотворения:
Сегодня ночью, не солгу, По пояс в тающем снегу Я шёл с чужого полустанка.
Гляжу - изба, вошёл в сенцы -Чай с солью пили чернецы, И с ними балует цыганка...
У изголовья вновь и вновь Цыганка вскидывает бровь, И разговор её был жалок; Она сидела до зари И говорила: «Подари Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».
Того, что было, не вернёшь, Дубовый стол, в солонке нож, И вместо хлеба - ёж брюхатый;

Хотели петь - и не смогли, Хотели встать - дугой пошли Через окно на двор горбатый.
И вот проходит полчаса, И гарнцы чёрного овса Жуют, похрустывая, кони; Скрипят ворота на заре. И запрягают во дворе; Теплеют медленно ладони.
Холщовый сумрак поредел.
С водою разведённый мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает [Мандельштам 2009-2011,1, 141].
Цыганская тема, связанная в программных статьях Мандельштама начала 1920-х гг. с поэмой Пушкина, неожиданно меняет свой смысловой ореол. Напомним, что в «Цыганах» поэта привлекала легенда старого цыгана об Овидии, с которой Мандельштам связывал представления о судьбе старого мира в новой реальности. Его то ли утопия, то ли мольба заключалась в том, что «чужие люди» возьмут «нежную опеку над старым миром, который уже “не от мира сего”, который весь ушёл в чаянье и подготовку к грядущей метаморфозе» [Мандельштам 2009-2011, II, 49-50]. К этим представлениям примыкает и идея эллинизма, которую Мандельштам иллюстрирует фрагментом из «Цыган» («О природе слова»): «Эллинизм -это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым и с тем же самым чувством священной дрожи, с каким -
Как мёрзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика» [Мандельштам 2009-2011, II, 75-76].
Эллинизм как «очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом» [Мандельштам 2009-2011, II, 76] экстраполируется Мандельштамом на природу русского языка. «Чужие люди», в свою очередь, вполне могут проецироваться на тех, кто строит новый мир. Мандельштаму хочется видеть в них человечность и милосердие к старому миру, отношение к культуре как к сакральной сфере и к поэту как к носителю святости искусства.
В «Цыганке» нет ничего подобного, она вписывается не в мандельшта-
мовскую рецепцию пушкинской поэмы, а в негативную ветвь «цыганского мифа» [Мароши 2019, 56], она ближе к «цыганской» метафоре «Четвёртой прозы»: «вороватая цыганщина писательского племени» [Мандельштам 2009-2011, II, 354]. «Кадры» из жанровых сценок поздней поэзии Мандельштама, то есть цыганка-плясунья и городские гадалки («Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном», «Не гадают цыганочки кралям...» [Мандельштам 2009-2011, I, 162, 241]) противоположны по смыслу и настроению балладе 1925 г, ибо являют собой реалии всё ещё устойчивого или уже потерянного привычного городского мира.
В «Цыганке» за балладными ужасами ощущается выход лирического героя в открытое пространство скитаний: сцена в странной избе опоясана дорогой от «чужого полустанка» и сборами в дорогу неизвестно куда («И запрягают на дворе»). Это дорога в неопределённом пространстве, с неопределённым маршрутом, с остановкой в чужом доме - не то в избе, не то на постоялом дворе. Герой попадает в искривлённый мир, где жилище не защищает, а таит новые опасности. Временное жилище (вокзал, гостиница, съёмный угол, чужая квартира, странная изба) - один из лейтмотивов творчества Мандельштама 1920-30-х гг, имеющий как биографический подтекст, так и символический статус. Защищённое пространство человеческого жилья в парадигме образных метаморфоз превращается в тюрьму, гроб, погибельную избу Неправды, «халтурные стены / Московского злого жилья» [Мандельштам 2009-2011, I, 183]. В анализируемом стихотворении реализуется как мифологема «дома у дороги», так и сказочная топика колдовской избы [см. Сурат 2020, 183-186].
«Цыганская» тема связалась в творческом сознании Мандельштама с темой постоялого двора благодаря семантике кочевья, бесприютности, чуждости пространства. Вся традиционная семантика воли перевёрнута или даже вывернута в кошмарном сне стихотворения, она служит контрастным фоном. Цыганка оказывается рядом с «чернецами», вместо разомкнутого пространства степи и воли - замкнутое и зачарованное пространство постоялого двора, где свободное движение невозможно, как в ночном кошмаре. Тема рока-судьбы решается как в поэтике пророческого сна с его символами для толкования, так и в подтексте, ведущем к самоощущению Мандельштама-лирика непосредственно перед пятилетним молчанием. В рецепции образа цыганки взаимодействуют традиционные семантические шлейфы, тем самым подключая к восприятию степное пространство кочевья как естественное для цыган и противопоставляя его пространству колдовской избы. Имплицитная антитеза степи и постоялого двора наводит на мысль о классической параллели. Не исключено, что повесть Чехова «Степь» сыграла определённую роль в формировании образного строя стихотворения. При этом переклички можно усмотреть не только на архетипическом и мифопоэтическом уровне, но и на уровне конкретных образов и их связей.
В повести Чехова священник занимается не своим прямым делом, в стихотворении Мандельштама чернецы оказываются в странном обще-
стве цыганки, возможно, не по своей воле. Постоялый двор в «Степи», который должен бы восприниматься как некий отдых после блужданий в бесконечном пространстве, ночлег и дом, пусть и временный, в перевернутом виде отражает родной мир: жалкий вишневый садик - вишневые деревья на кладбище, маленькая мельничка, которая не мелет, а служит для отпугивания зайцев, - колдовскую мельницу с разными крыльями в начале повести. Хозяева и обстановка постоялого двора демонизируются, даже дети напоминают стоглавую гидру. Но если у Чехова этот мотив оборотничества спрятан в повествовательной структуре [Ларионова 2018, 98-102], то у Мандельштама он показан буквально: «вместо хлеба - ёж брюхатый». Не случайно в любовном и тоже условно-фольклорном стихотворении, написанном в 1924 г, появляется оборотень: «Разве кошка, встрепенувшись, / Чёрным зайцем обернувшись, / Вдруг простёгивает путь, / Исчезая где-нибудь» [Мандельштам 2009-2011,1, 304].
Учитывая, что «хлебная» образность была окружена плотным ореолом сакральности в творчестве Мандельштама 1920-х гг. [Тоддес 1988], можно яснее ощутить меру распада сущностных начал. У Чехова Егорушка вместо маковников, леденцов, «которые он каждый день ел у себя дома», получает от доброй хозяйки постоялого двора хлеб с мёдом, но для него и мёд этот - не настоящий мёд, и «большой ржаной пряник в виде сердца» [Чехов 1977, 38-39] мальчик суёт в карман, да и забывает там, а пряник после грозы превращается в замазку. Не согретые родным теплом, обесцениваются простые основы человеческого бытия и быта. В чуждом мире сакральное оборачивается профанным, ненастоящим.
В перспективе подобного восприятия рифмуется и такая предметная деталь, как дубовый стол. У Чехова «этот стол был почти одинок» [Чехов 1977, 31] в убого обставленной комнате, у Мандельштама он включается в перечисление странных и таящих угрозу, изменённых предметов скудного «уюта»: «Дубовый стол, в солонке нож, / А вместо хлеба - ёж брюхатый». Странный образ ножа в солонке справедливо связывается с ключевыми образно-смысловыми элементами лирики Мандельштама первой половины 1920-х гг, в частности, образом соли в стихотворениях «Умывался ночью на дворе...», «Кому зима - арак и пунш голубоглазый...», «1 января 1924» [Шиндин 2017, 39]. Если всё же в широком и многообразном семантическом поле образа конкретизировать то, что ближе к его значению в «Цыганке», то это «соль на топоре» в двух первых стихотворениях с «гумилёвским» и общим «заговорщическим» следом (см. в одном из вариантов стихотворения «Кому зима - арак и пунш голубоглазый...»:«... отарою овец, и кто-то говорит: / Есть соль на топоре, но где достать телегу, / И где рогожу взять, когда деревня спит» [Мандельштам 2009-2011,1, 461]. «В солонке нож» - это не просто искажение привычной обыденности, но и намёк на семантику насилия, разбоя, убийства. М.Л. Гаспаров в связи с повторяющимся образом «соль на топоре» вспоминает о древнем назначении соли как средства очищения жертвы перед жертвоприношением [Гаспаров 2001, 338]. В «Цыганке», однако, актуализируется скорее
условно-фольклорный «разбойный» вариант, перекликающийся со страшными рассказами чеховского Пантелея о хозяевах постоялых дворов, убивающих своих постояльцев.
Демонизация избы в мандельштамовском стихотворении усугубляется неопределённостью происходящего. В отличие от Пушкина («Сон Татьяны») и Чехова («Степь») Мандельштам рисует жилище без хозяина, с безликими персонажами в шокирующем сочетании. И цыганка, и чернецы являют собой многократно усиленный признак чужого по отношению к лирическому герою: в этническом, историческом планах, в чуждом для них самих дисгармоничном пространстве сновидения и жутковатого «пира» (чернецы, пьющие «чай с солью», в странной компании цыганки, которая с ними «балует»), С другой стороны, в образе чернецов можно увидеть и некий намёк на творческую интеллигенцию, как это делает С.Г. Шиндин, аргументируя мысль мандельштамским контекстом, его индивидуальной метафорикой, предполагающей сближение культуры и церкви [Шиндин 2017, 42].
«Золотушный грач», увенчавший балладу, заставляет вспомнить, что эта птица в повести Чехова не просто один из видов, характерных для южной степи, но как бы олицетворение степи, её образный аналог: «Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь ещё более однообразной»; «опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи» [Чехов 1977, 17]; «одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами чёрствую землю» [Чехов 1977, 29].
Но более значимым представляется мотив тех метаморфоз, которые происходят с героями повести и баллады. Психологически мотивированным жестам Мойсея Мойсеича и перемене облика Соломона в восприятии сонного Егорушки в мандельштамовском стихотворении соответствуют ключевые символы колдовской силы, искажающей жизнь. У Чехова: «Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу» [Чехов 1977, 30]. Само строение фразы намекает на то, что и сюртук, и спина не зависят от воли Мойсея Мойсеича. У Мандельштама: «Хотели петь - и не смогли, / Хотели встать - дугой пошли». Та «невидимая гнетущая сила», которой внешним образом в чеховском пейзаже придан характер природного явления, становится неодолимым условием человеческой жизни. У Мандельштама речь идёт о том же самом, только с иным актуальным подтекстом.
Извиняющаяся фраза Мойсея Мойсеича «у нас не чисто» [Чехов 1977, 42] приобретает двусмысленность, если вспомнить сходство Соломона с нечистым духом в полусне Егорушки. У Мандельштама балладные ужасы определяются жанровой традицией, которая подразумевает среди прочего мотивику ночного кошмара, однако, прежде всего, - лирическим переживанием некой гнетущей силы, которая превращает бытие в ночной кошмар и лишает человека воли.
Если выйти за пределы «Цыганки», можно увидеть в лирике Манд ель-
штама ветхозаветные коннотации образа духовных странствий, символом которых становится посох-стариковская палка, а закономерным этапом -путь «с гурьбой и гуртом» [Мандельштам 2009-2011, I, 231], что также наводит на параллели и ассоциации со «Степью». «Овечья» образность в его лирике при всей её полигенетичности и многозначности часто отсылает к ветхозаветным смыслам, а в ранней лирике - к обобщённому символу народа. Многочисленные отсылки к ветхозаветным образам в чеховской повести прочно ассоциируются с образом степи, и это ещё одно условие для неожиданных параллелей с поэзией Мандельштама. Если же выйти за пределы эпизода постоялого двора, что, собственно, мы уже делали выше, то обращает на себя внимание сцена с бывшим певчим Емельяном, который больше не может петь, но не может и не петь, поэтому непрестанно беззвучно поёт и размахивает руками, как будто дирижирует. Очень важная в контексте стихотворения «Цыганка» и всей лирики Мандельштама строка «Хотели петь - и не смогли» как будто вырастает из этого символического эпизода чеховской повести, хотя понятно, что её изначальная мотивация таится в глубинных переживаниях поэта и связана с его осмыслением судьбы поэзии и культуры в целом. Видимо, некие константы национальной жизни и творческого мышления двух художников смогли пересечься.
По сравнению с чеховской повестью, где архетипические и мифопоэтические планы не заслоняют социально-этнический план повествования, баллада Мандельштама оперирует с персонажами как с символами. Например, мотив чуждости задаётся уже в начале стихотворения: «Я шёл с чужого полустанка». Эпитет «чужой» явно не имеет рационального объяснения в этом словосочетании, но выполняет роль эмоционально-оценочного камертона и центрального символа. При этом он содержит противоположные коннотации по сравнению с фрагментом из пушкинских «Цыган», который стал в статье Мандельштама «Слово и культура» почти заклинанием о милосердии:
«Чужие люди для него
Зверей и рыб ловили в сети.
Спасибо вам, “чужие люди”, за трогательную заботу, за нежную опеку над старым миром» [Мандельштам 2009-2011, II, 354].
Понятно, что «еврейская» тема имела для Мандельштама другое звучание, нежели для Чехова, поэтому он наполняет понятие «чужой» иным этническим содержанием. При этом в эпизоде постоялого двора в повести Чехова поэт мог увидеть и нечто глубоко личное, связанное с «хаосом иудейским» и собственным самоопределением в русском мире. Возможно, некие первоначальные импульсы восприятия преобразовались в свою версию мифологемы Дома у дороги, включающую фольклорные и литературные универсалии (Дом, Дорога, гибельное место), конкретные литературные подтексты в сложном сочетании.
Каким бы противоречивым ни было отношение Мандельштама к Че хову, оно не исключает возможности и плодотворности художественного освоения чеховского опыта. Чехов предложил такие универсалии национального и индивидуального самосознания, которые актуализировались в творчестве поколения 1890-х гг. Повесть «Степь» может восприниматься и как метафора инициации, и как метафора погружения в русский мир, который, при всей исторической изменчивости, в чём-то хранит черты постоянства. В странных образах стихотворения «Сегодня ночью, не солгу. ..» запечатлен момент, когда время и пространство вокруг человека становится чужим и «всё представляется не тем, что оно есть» [Чехов 1977, 45], когда царит некое оборотничество, некая искажающая свободную человеческую волю сила. Этот феномен русской жизни, ощущаемый двумя художниками в совершенно разные, казалось бы, эпохи, лежит в основе неожиданных перекличек и параллелей, определяет родство образов, мотивов и их системных связей.
Список литературы "Сегодня ночью, не солгу...": Мандельштам и Чехов
- Брюханов А.Г. «Три сестры» Ефима Звеняцкого как реплика Осипу Мандельштаму. К вопросу об «античеховской» позиции поэта // Гуманитарные исследования в восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Филология. 2012. № 3. С. 89-95.
- Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. СПб.: Азбука, 2001.
- Кушнер А.С. Почему они не любили Чехова? // Звезда. 2002. № 11. С. 193196.
- Ларионова М.Ч. Повесть Чехова «Степь» в этнокультурном аспекте // Научная мысль Кавказа. 2018. № 1. С. 98-102.
- Мандельштам О. Цыганка // Новый мир. 1927. № 6. С. 80.
- Мандельштам, О.Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. / сост., подг. текста и коммент. А.Г. Мец. М.: Прогресс-Плеяда, 2009-2011.
- Мароши В.В. Цыганский «вакхический» миф в русской литературе XIX века и неодионисийский миф Вячеслава Иванова // Культура и текст. 2019. № 2 (37). С. 54-78.
- Нерлер П.М. Мандельштам о Чехове: притяжения и отталкивания // Нер-лер П.М. Con amore: Этюды о Мандельштаме. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 190-194.
- Сурат И.З. Сон // Новый мир. 2020. № 3. С. 173-189.
- Тоддес Е.А. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига: Зи-натне, 1988. С. 184-217.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т 7. М.: Наука, 1977.
- Шиндин С.Г. Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. III // Toronto Slavic Quarterly. 2017. № 59. P. 38-59. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/59/Shindin_59.pdf (дата обращения 02.02.2021).
- Шиндин С.Г. Стихотворение Мандельштама «Сегодня ночью, не солгу.»: опыт «культурологической» интерпретации // Натура и культура: Славянский мир. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 146-165.