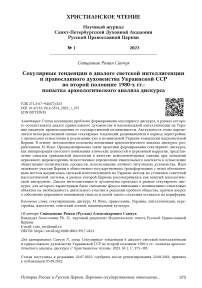Секулярные тенденции в диалоге светской интеллигенции и православного духовенства Украинской ССР во второй половине 1980-х гг.: попытка археологического анализа дискурса
Автор: Савчук Роман Руслан Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковно-государственные отношения в советский период
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме формирования секулярного дискурса, в рамках которого осуществлялся диалог православного духовенства и национальной интеллигенции на Украине накануне провозглашения ее государственной независимости. Актуальность темы определяется непосредственной связью секулярных тенденций, развивавшихся в период перестройки, с процессами осмысления и реализации уже в независимой Украине концепции национальной Церкви. В основу методологии положена концепция археологического анализа дискурса, разработанная М. Фуко. Проанализированы такие практики формирования секулярного дискурса, как инкорпорация светского понимания этических ценностей в церковный нарратив, представление смыслов гражданской идеологии в качестве комплементарных единиц при описании церковного мировоззрения, искусственное перенесение евангельского контекста в осмысление общественно-политических процессов, использование личного энтузиазма духовенства. Идея активного участия Церкви в общественно-государственных трансформациях с четко обозначенным местом выдвигалась светской интеллигенцией на Украине исходя из установок советской идеологической системы, в рамках которой Церковь рассматривалась как важный идеологический инструмент. Диалог интеллигенции и духовенства проходил в рамках секулярного дискурса, для которого характерным было смещение фокуса внимания с номинативно-смысловых объектов на необходимость деятельного участия в решении проблем общества, причем вопрос о собственно церковном понимании смысла и целей такого служения оставался на периферии.
Секуляризация, дискурс, м. фуко, православие, украина, интеллигенция, перестройка, идеология, советский атеизм, национальная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/140297613
IDR: 140297613 | УДК: 271.2-67+94(477):323 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_375
Текст научной статьи Секулярные тенденции в диалоге светской интеллигенции и православного духовенства Украинской ССР во второй половине 1980-х гг.: попытка археологического анализа дискурса
Введение
Актуальность
Общественные трансформации, произошедшие в Советском Союзе во второй половине 1980-х гг. и связанные с процессами демократизации и гласности гражданской жизни, породили в советском социуме целый комплекс новых явлений. Одним из них было возвращение в общественное пространство духовенства, возрастание интереса к церковной жизни со стороны светской интеллигенции. В Украинской ССР эти процессы имели свои особенности. Местная национальная интеллигенция испытывала влияние как старой тоталитарной идеологической системы, так и новых тенденций активизации национального фактора. В то же время православное духовенство в украинском обществе сохраняло возможность для сравнительно большего влияния на светскую среду ввиду исторических особенностей позднего распространения советской власти на западные регионы и, соответственно, значительного количества сохранившихся приходов и национально-религиозных традиций на данной территории. Активизация православных и греко-католических деятелей украинской диаспоры в связи с тысячелетием принятия христианства на Руси, с характерным креном в сторону национального контекста церковной истории [Ювілейний збірник, 1989], также не оставалась незамеченной на территории УССР. В самом Советском Союзе во второй половине 1980-х гг. формировалась новая модель взаимоотношений государства с Церковью — кооперационного взаимодействия [Курилов, 2022, 223]. Следствием этого было особое внимание национальной светской интеллигенции к общественной позиции православного духовенства, стремление вовлечь последнее в активную гражданскую жизнь, что подпитывалось и национальным фактором, особенностями менталитета. В то же время сколь-нибудь значимый опыт конструктивного взаимодействия советской интеллигенции и духовенства отсутствовал. Данные особенности формирования модели взаимодействия секулярного общества и Церкви в период кризиса и гражданских трансформаций определяют актуальность настоящего исследования как в этногеографическом, так и в смысловом аспектах.
Историография
Общие черты церковно-общественных отношений позднесоветского периода рассматривались в разных контекстах в современной отечественной и зарубежной историографии [Колмакова, 2017; Колодный и др., 2010; Наука о религии, 2015; Смолкин, 2021; Элбакян, 2011; Powell, 1991]. Собственно украинское измерение «возвращения» религии в общественно-политическое пространство позднесоветского периода активно осмысляется религиоведами и учеными современной Украины в связи с возрастающей поляризацией в религиозном вопросе после событий 2014 г. (см.: [Бокоч, 2021, 2]). Среди исследований современных украинских авторов в контексте проблемы общественного измерения бытия религии в конце 1980-х гг. особый интерес представляют работы О. Киселева [Кисельов, 2016] и Е. Панич [Панич, 2015]. Важные теоретические разработки советской модели секуляризации содержатся в работах Д. Узланера [Узланер, 2010] и В. Курилова [Курилов, 2022]. Однако в целом приходится констатировать отсутствие предметных работ, посвященных анализу взаимоотношения духовенства и светского общества позднесоветского периода в контексте теории секуляризации. В существующих исследованиях указанная проблема рассматривается в общеполитическом, институциональном или же идеологическом контекстах [Шкаровский, 2010, 398-410; Наука о религии, 2015; Смолкин, 2021, 469–487].
Методология
В основе методологического подхода, использованного автором, лежит предложенная М. Фуко теория археологического анализа дискурса. Под дискурсом мы будем понимать «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования» [Фуко, 2020, 206]. Такое понимание дискурса имеет два важных методологических следствия. Во-первых, в центре анализа находятся не собственно вербальные формы и структуры, а именно практики их формирования, которые впоследствии и определяют направления развития дискурса.
Во-вторых, мы стремимся по мере возможности уйти от ссылок на субъективный характер дискурса, от углубления в мотивы субъектов и контекст. Это связано с определенными аксиологическими вызовами, поскольку с точки зрения присутствующих субъективностей речь идет о столкновении представителей светского мира и мира веры. Если ставить этот фактор во главу угла, то нам придется постоянно обращаться более к контексту, чем собственно к дискурсу, прибегать к оценкам, интерполяциям. И вместо определения того, что было сказано, нам придется говорить о том, что было недосказано или что имелось в виду с точки зрения субъекта действия. Однако дискурс существует отдельно от намерений субъекта. Мотивы и контекст определяют облик говорящего, однако мало говорят о тех последствиях, которые будут иметь его высказывания, облеченные в конкретную форму и произнесенные в конкретных обстоятельствах. Именно поэтому, чтобы страх мнимых обвинений не толкал нас, по выражению М. Фуко, «отвечать в терминах сознания, когда вам говорят о практике, о ее условиях, о ее правилах» [Фуко, 2020, 370], мы стремимся рассматривать формировавшийся во второй половине 1980-х гг. секулярный дискурс не как вербальную форму выражения намерений и мотивов православного духовенства и светской интеллигенции УССР, а как определенную систему практик и отношений, определяющую облик православия в общественной мысли и сложившуюся в относительной самостоятельности от мотивов и намерений субъектов дискурса.
Основная часть
Гражданские ценности как инструмент секуляризации церковного нарратива
Светская интеллигенция переживала «возвращение» гуманистических идеалов в общественную сферу как одно из важнейших свидетельств перестройки в государстве. Это мыслилось «современным возрождением в духовной жизни человека». С точки зрения секулярного сознания речь шла о возрождении «внеконфессиональ-ных», «универсальных» ценностей, которые принадлежат не только христианам, а являются по сути системой светской нравственности [Никодим Руснак, 1989, 15]. «Сегодня большой спрос на мораль, доброту, милосердие, потому что именно их у нас, возможно, самый большой дефицит», — писал один из атеистических авторов, отмечая при этом, что в данной сфере «Церковь занимает достойное место в обществе и общественной мысли» [Єришев, 1989, 28]. Рефреном диалога светского общества с Церковью была мысль о том, что «разница в мировоззренческих убеждениях не должна разделять людей линией фронта — всех нас объединяет искреннее исповедание вечных человеческих истин» [Макарій Свистун, 1989, 15]. Такой подход в рамках общественно-политических процессов, где существует право на свободомыслие и плюрализм мнений, где нет понятия абсолютной истины, следует признать вполне обоснованным. Учитывая отсутствие сколько-нибудь значимого опыта коммуникации представителей светской журналистики с духовенством, очевидно, что речь шла именно о построении знакомой для первой светской модели взаимодействия. При этом данная модель формирования дискурса о Церкви опиралась на достаточно упрощенные представления о церковной жизни и мировоззрении верующих, которые были характерны для советского идеологического нарратива. С этой точки зрения «универсальные» ценности мыслились как абсолютно свободные от какого-либо влияния Церкви. Речь шла о постулировании вполне конкретной дистанции между этическими универсалиями, которые светская интеллигенция видела основой «современного возрождения в духовной жизни», и христианским наследием в духовной культуре. Это дистанцирование Церкви от «универсальной этики», которое пронизывало дискурс взаимодействия светского общества и верующих во второй половине 1980-х гг., было одним из основополагающих принципов диалога между ними. Речь не идет о злонамеренности одной из сторон. Мы говорим о практиках, которые определяли содержание дискурса. Причиной такого «нежелания» со стороны светской интеллигенции увидеть христианские мотивы универсальных ценностей было не стремление «унизить» Церковь, а скорее отсутствие иной модели формирования общественного этического дискурса. Для советской атеистической интеллигенции понятия «церковности», «христианского» были наполнены слишком очевидными отрицательными коннотациями и оценками. Такая дискурсивная практика, по всей видимости, вынуждала и духовенство весьма осторожно относиться к собственно христианскому содержанию «универсальных ценностей».
При анализе появившихся в это время интервью светских журналистов с православными иерархами бросается в глаза одна важная деталь. В разговоре о роли Церкви в общественной жизни практически отсутствовали вопросы о собственно религиозных ценностных ресурсах. «Какой вклад в перестройку делает Церковь?» [За єдність i перебудову, 1989, 21] — спрашивали журналисты у Патриаршего Экзарха Украины. Такая постановка вопроса предполагала уже заданные рамки ответа, ограничивавшиеся самим понятием «перестройка». Такими рамками сразу же сужались возможности разговора о широком пространстве взаимодействия Церкви и общества. Однозначность понятия «перестройка» требовала соответствующей узости разговора. Попытка донести важность собственно церковного служения, христианского измерения участия верующих людей в общественных проблемах затушевывалась приглашением говорить именно о политических реалиях. Таким образом, активное употребление политизированных понятий в дискурсе, который вербализировал взаимоотношения Церкви и общества, определяло достаточно узкие рамки для возможности услышать голос церковного мировоззрения. Причиной формирования данной практики можно считать слишком большой градус политического накала в обществе и отсутствие элементарного знакомства с церковной терминологией у светской интеллигенции, восприятия Церкви исключительно как идеологического института.
Со стороны духовенства мы видим стремление использовать благоприятные обстоятельства демократизации для возвращения Церкви в общественную жизнь в качестве авторитетного нравственного института. И в этом контексте мысль о том, что православие отстаивает универсальные ценности, поддерживалась. Так, митрополит Львовский и Дрогобичский Никодим вторил своему интервьюеру: «Церковь никак не может претендовать на то, что именно она положила начало благотворительности. Она просто поддержала древние народные традиции и дальше развила их» [Никодим Руснак, 1989, 15]. Очевидно, что подобный акцент на универсальности исповедуемых ценностей, их глубинной связи со светской средой мотивировался необходимостью показать «безопасность» Церкви для светского общества, обозначить своего рода «нормальность» присутствия верующих в публичном пространстве. Эта мысль подкреплялась отсылками к признанным моральным авторитетам других конфессий. С этой целью митр. Никодим вспомнил приезд в Советский Союз матери Терезы и благотворительную деятельность баптистских сестер милосердия в московских больницах [Никодим Руснак, 1989, 17].
Обоснованность такого подхода к формированию дискурса о Церкви становится понятной из интервью другого украинского иерарха — архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Макария. Владыка, в частности, упоминая мать Терезу, заметил: «Ни на йоту не приуменьшая высоты благородства этих людей, скажу: жаль только, что наша пресса делает паблисити лишь для западных монахов. А разве у нас нет самоотверженных служителей церкви, готовых отдать всю доброту своей души ближнему, который страдает?» [Макарій Свистун, 1989, 16]. Как видим, нравственный вакуум общественной жизни в конце 1980-х гг. на Украине начал заполняться «внешними» авторитетами и «универсальными» ценностями. Это заставляло духовенство делать акцент в своей деятельности на всеобщий характер исповедуемых ценностей, представлять православие более в форме национальной или традиционной идеологии, нежели евангельского благовестия. Вместе с этим более рельефно обозначался антагонизм светского общества по отношению к традиционному церковному пониманию духовной жизни, чуждому политического контекста и лишь косвенно связанному с культурной сферой. Последняя мысль вполне осознавалась духовенством. Архиепископ Макарий в своем интервью указывал: «Мы можем, конечно, не соглашаться друг с другом в определениях. Духовность означает, безусловно, интеллигентность, достойное воспитание, хорошее образование, приятный характер. Но для нас, религиозных людей, это, прежде всего, — просветление Духом, связь с Верховным Абсолютом, — мера духовности зависит от того, насколько далеко стоит человек от Него» [Макарій Свистун, 1989, 15]. Подобно и митр. Филарет, Патриарший Экзарх Украины, в разговоре со светским корреспондентом обращал внимание на то, что «вера может быть разной: религиозной или верой в какие-то другие высокие идеалы», но именно религиозная вера является основой христианской жизни [Жити надією, 1990, 21].
Как видим, православное духовенство хотя и вынуждено было «вклинивать» церковный нарратив в светскую риторику, понятную для общества, однако вполне осознавало необходимость обозначения определенной дистанции между светским и собственно христианским пониманием отдельных этических категорий. Так проявлялась своего рода «конкуренция» смыслов в дискурсивной практике.
Однако со стороны светского общества указанный мотив «конкуренции» смыслов, очевидно, воспринимался как неудобный разрыв дискурса. Интеллигенция пыталась сгладить подобные разрывы, чтобы не «травмировать» аудиторию. Так, в общении с митр. Никодимом, когда владыка говорил о поступках «глубоко верующих христиан», интервьюер, словно парируя его мысль о мотивах добродетельных поступков, подчеркивал: «Действиями этих людей, думаю, прежде всего руководили чувства гражданина, человеческое движение души, духовный долг» [Никодим Руснак, 1989, 19]. Очевидно, именно в этом столкновении собственно христианской нравственной максимы и секулярно ориентированного запроса общества на универсальную мораль и традиционализм в его политико-идеологическом контексте, со всей ясностью обозначалось расхождение между Церковью как Телом Христовым и ее секулярным образом одной из хранительниц универсальных или иных гражданских ценностей. С точки зрения дискурса можно утверждать, что светскую интеллигенцию не столько беспокоило идейное содержание указанного диссонанса, сколько именно его форма — разрыва, несостыковки, конкуренции. Поэтому в общественном дискурсе светская интеллигенция пыталась заменить мотив конкуренции мотивом комплемен-тарности: церковное и светское понимания отдельных этических категорий представлялись не как антагонистические или несводимые друг к другу, а как разные стороны одной этической универсалии.
Церковь и запросы общества
В диалоге с Церковью со стороны украинского позднесоветского общества выдвигались вполне конкретные запросы на участие в благотворительной деятельности, поддержании нравственности. Их смысл заключался в том, что Церковь призвана возместить «многолетний дефицит человечности» в светском обществе. В этом контексте украинские иерархи подчеркивали, что «перестройка общественной жизни <...> создает такие условия, когда все люди, в том числе и верующие, могут принять активное участие в решении самых сложных и насущных проблем нашей жизни» [Никодим Руснак, 1989, 16]. Таким образом, с одной стороны, обосновывалась активная гражданская позиция членов Церкви, а с другой, декларировалась солидарность с нарастающим в обществе стремлением активного обновления жизненных условий. При этом характерно, что в рассматриваемом дискурсе собственно «перестройка» представлялась духовенством как некие рамки, контекст, сам по себе лишенный целевого смысла. Если светская интеллигенция задавалась вопросом о том, «какой вклад в перестройку делает Церковь» [За 6днiсть i перебудову, 1989, 21], то церковные деятели пытались осмыслить, какие возможности предоставляет перестройка для церковной деятельности. «Да, Церковь принимает перестройку, и в этом ни у кого не должно быть сомнения», — писал один из священнослужителей Украинского Экзархата. Но тут же уточнял: «Она принимает ее не как экономическую концепцию, не как политическую доктрину, а как концепцию христианской этики» [Чобич, 1990, 25]. Очевидно, именно в контексте борьбы с политизацией церковной деятельности в общественном мнении духовенство стремилось максимально облечь присутствие Церкви в обществе в формы гуманитарной и культурной активности. Так, митрополит Львовский и Дрогобичский Никодим заявлял, что «призванием» новооткрытых женских монастырей «будет, прежде всего, помогать страждущим» [Никодим Руснак, 1989, 17]. С точки зрения собственно церковной жизни в указанной позиции в некотором смысле умалялась христианская сторона монашеского служения — молитва за весь мир. Однако в контексте рассматриваемого дискурса мы видим, что такой акцент определялся именно особенностями практики: гуманитаризация церковной деятельности как ответ на очевидные стремления ее политизации.
В связи с тысячелетним юбилеем Крещения Руси отечественная христианская история осмыслялась украинской интеллигенцией в достаточно однозначном гражданско-государственном контексте. Религия преподносилась именно как фактор развития государственности, иные контексты опускались. Примечательно, что корреспондент журнала «Киев» в беседе с епископом Переяславским Палладием говорил о тысячелетнем юбилее начала «государственного христианства на Руси» [Творити добро, 1988, 109]. Попытки представить христианство в качестве одного из элементов государственной или национальной идеологии развивались интервьюером на протяжении всей беседы. Так, в вопросе о реставрации храма св. Параскевы в Чернигове главный акцент был сделан на то, что это свидетельство обособления национальной культуры от византийского влияния, развития самобытного народного гения. Журналиста также интересовала роль православия в борьбе с монголо-татарами и западным влиянием. Делался акцент на том, что в рамках религиозного воспитания и христианского мировоззрения в прошлом вырастал «цвет нации». Ставился вопрос об участии духовенства в борьбе за права человека, расширении сотрудничества государства и Церкви [Творити добро, 1988, 110–114]. Центральной темой разговора корреспондента газеты «Вечерний Киев» с Патриаршим Экзархом Украины в сентябре 1989 г. стал «национальный вопрос» в Советском Союзе и роль Русской Православной Церкви в его разрешении. Примечательно, что митр. Филарет признавался: «В этом разговоре я не желаю касаться политики, потому что Церковь в нашей стране, как известно, отделена от государства и находится вне политики». Однако сразу же уточнял: «Но как гражданин своей Родины и церковный деятель не могу молчать...» [В єдності могутність Вітчизни, 1989, 29]. В целом весь контекст беседы сводился к политической тематике, куда именно в этом ракурсе был введен и вопрос о возрождении униатства. В риторике публикации упор делался на такие понятия, как «ослабление» государства, единство «народно-хозяйственного комплекса» Советского Союза, необходимость поднятия «экономического благосостояния» народа, «расцвета национальных культур». Важно отметить, что речь идет о светских изданиях. С точки зрения анализа дискурсивной практики указанные примеры свидетельствуют о фиксации в общественной мысли достаточно «плоской» модели Церкви. Акценты в вопросах журналистов, редакторские правки, которые очевидно предшествовали публикации материала, в конечном итоге были направлены на то, чтобы в вышедшей статье заставить говорить Церковь на языке обывателя, интересующегося политикой, а не религией. Если для духовенства подобные интервью были возможностью донести до общественности голос обеспокоенности, сопереживания, духовный взгляд на происходящие изменения, то жесткие рамки дискурсивной практики, которая в конечном итоге формировала вербализованый облик диалога, доносили до читателя лишь те мысли и в том контексте, который был интересен с точки зрения политических оценок происходящего. В таком изложении мотивы духовенства оставались за гранью вербальных структур и могли считываться лишь в качестве общего контекста и только теми, кто был знаком с реалиями жизни Церкви как выразительницы евангельского благовестия.
Ввиду особенностей времени светская интеллигенция достаточно остро ставила перед Церковью вопрос о поиске «правды». «Наступило время „жаждущих правды“», — говорил корреспондент журнала «Киев» в беседе с украинским иерархом, и далее ставил вопрос о качествах «человека будущего», соотнося его образ с евангельским призывом «быть совершенными» [Творити добро, 1988, 114]. Сама риторика, наполненная евангельскими образами, свидетельствовала о стремлении ввести библейский нарратив в контекст общественно-политических процессов. Собственно церковные проблемы абсолютной истины и духовной жизни представлялись всего лишь как пройденный этап развития богословской мысли, отвлеченные идеи, не пересекающиеся с реальностью. Евангельская этика, напротив, становилась вполне конкретной и приземленной частью программы перестройки общества, монтировалась в секулярный образ общественного блага. При этом духовенство, нужно сказать, искренне поддерживало светлые ожидания от будущего. Митрополит Филарет, Экзарх Украины, в ответ на сомнения корреспондента по поводу торжества добра, утверждал, что хотя рай в полном смысле этого слова на земле построить невозможно, «однако можно построить такую жизнь, в которой человек будет чувствовать себя комфортно. <...> То есть на земле можно построить относительное Царство Божье» [Жити надією, 1990, 21]. Владыка Палладий определенно подтверждал, что он полагает «большие» надежды на современные изменения и верит, что наступило время «жаждущих правды» [Творити добро, 1988, 114]. Очевидно, что правда в евангельском контексте отличается от правды и допустимых средств ее достижения в контексте светском. Понимание дискурса не просто как вербальных структур, которые передают заложенный в них субъектом смысл, а как системы практик, определяющих содержание безотносительно намерений и мотивов говорящего, ставит вопрос о том, в каком контексте воспринимались указанные слова читательской аудиторией. Очевидно, мы должны говорить о том, что самые искренние мотивы духовенства далеко не всегда корректно представлялись в рамках светского дискурса.
Один из наиболее значимых запросов со стороны общества был связан с кризисом института семьи. Как и в остальных сферах, в данном вопросе светской интеллигенцией предлагался вполне определенный формат деятельности для Церкви. «Время такое, что не все христианские предупреждения срабатывают» [Макарій Свистун, 1989, 17], — отмечала журналист в беседе с архиеп. Макарием. И далее указывала, что причина кризиса — отнюдь не в отсутствии собственно церковного влияния, поскольку кризис семьи касается и тех стран, где не было отделения Церкви от государства. Следовательно, собственно церковные средства разрешения проблем семьи заранее объявлялись устаревшими и неэффективными. Церкви предлагалось действовать теми средствами, эффективность и необходимость которых определена обществом.
С проблемой кризиса семьи тесно связана и проблема молодого поколения, которое, по мысли украинской позднесоветской интеллигенции, потеряло нравственные и культурные ориентиры. В этом смысле духовенству предлагалось принять участие в восстановлении национальных традиций, пропаганде отечественного культурного наследия перед лицом его обесценивания и заинтересованности «экзотическими» течениями, идеями и культурами [Макарій Свистун, 1989, 18].
Формат взаимодействия общества и Церкви в новых реалиях постепенного демонтажа тоталитарной идеологии на Украине закладывался в условиях острого кризиса общественной жизни и беспрецедентных надежд на социальные трансформации. В этих условиях духовенство естественным образом поддерживало благие начинания и преобразования, во многом шло навстречу ожиданиям общества. Стремление поддержать общественные трансформации, вызванные перестройкой, и связанный с этим гражданский энтузиазм духовенства не были безусловным препятствием для сохранения внутренней цельности церковной жизни. В усилиях реализовать себя как граждан и патриотов, в «поддержке украинской национально-традиционной культуры» духовенство апеллировало к историческому опыту: «Церковь в наши дни, как и всегда было, призвана поддержать и донести к сознанию людей всю ценность исторических приобретений украинского народа; более того, должна стать просветительско-культурным центром» [Чобич, 1990, 26]. Однако, как было показано выше, смысл, который вкладывался в понятие «традиционной культуры» духовенством и светской интеллигенцией, весьма отличался. Если для православного духовенства традиционализм в украинском историческом контексте имел однозначную конфессиональную или хотя бы христианскую основу, то светское сообщество настаивало на «внеконфессиональных» и «универсальных», в смысле нерелигиозных, ценностях. Такое несовпадение смыслов способствовало смещению акцентов. В рассматриваемом дискурсе, который формировался в рамках светского общественного мнения, акценты смещались с его номинативно-смысловых объектов на глагольно-деятельные. Иными словами, если духовенство стремилось больше обращать внимание на смысл, содержание деятельности Церкви, то дискурсивные практики секулярного контекста в конечном итоге смещали фокус на необходимость деятельного участия в решении проблем общества, оставляя на периферии вопрос о собственно церковном понимании смысла и целей такого служения. Звучал призыв к действию, а не к дискуссии о целях и формах. Отсюда и требования гибкости церковной мысли, приспособления ее задач к условиям времени. Ведь если атеистическая интеллигенция признавала, что «нужно преодолеть упрощенное и догматическое объяснение ряда важных положений атеизма, которое сложилось в нашей литературе последних десятилетий, возобновить его истинно гуманистическую сущность» [Єришев, 1989, 26], то вполне «естественным» представлялось и подобное требование к церковному мировоззрению — преодолеть «устаревший догматизм и упрощения» во взглядах на общественную жизнь, встать на рамки гуманистического прогресса в его секулярной форме.
Выводы
Предпринятый анализ дискурса, который вербализировал взаимодействие православного духовенства и украинской светской интеллигенции во второй половине 1980-х гг., позволяет сделать следующие выводы:
-
- в связи с отсутствием значимого опыта взаимодействия светской интеллигенции и Церкви, а также исторически сложившимися в рамках советского общества традициями восприятия церковного мировоззрения как ущербно узкого, позднесоветское общество сталкивалось с трудностями понимания и принятия религиозного смысла некоторых этических категорий;
-
- активное употребление политизированных понятий в дискурсе, который вер-бализировал взаимоотношения Церкви и общества, восприятия Церкви исключительно как идеологического института, определяло достаточно узкие рамки для возможности разъяснения мотивов и смысла церковного служения в обществе;
-
– в анализируемом дискурсе наблюдалась своего рода «конкуренция» смыслов, когда православное духовенство, вынужденное «вклинивать» церковный нарратив в светскую риторику, понятную для общества, все же в некоторых случаях стремилось обозначить определенную дистанцию между светским и собственно христианским пониманием отдельных этических категорий;
-
– со стороны светского общества указанный мотив «конкуренции» смыслов воспринимался как неудобный разрыв дискурса. С целью его преодоления «конкуренция» смыслов подменялась их искусственной комплементарностью;
-
– в контексте борьбы с политизацией церковной деятельности в общественном мнении духовенство стремилось максимально облечь присутствие Церкви в обществе в формы гуманитарной и культурной активности;
-
– в рассматриваемом дискурсе характерным было смещение акцентов с его номинативно-смысловых объектов на глагольно-деятельные, секулярный контекст в конечном итоге смещал фокус на необходимость деятельного участия в решении проблем общества, оставляя на периферии вопрос о собственно церковном понимании смысла и целей такого служения.
Список литературы Секулярные тенденции в диалоге светской интеллигенции и православного духовенства Украинской ССР во второй половине 1980-х гг.: попытка археологического анализа дискурса
- Бокоч (2021) — Бокоч В. М. Взаемозв'язок суспшьно-полиичних 1 релкшно-церковних трансформацш. Квал1ф1кацшна наукова праця на правах рукопису. Дис. ... докт. пол1т. наук: 23.00.02. Одеса, 2021.
- В едноси могутшсть Вичизни (1989) — В едноси могутшсть В1тчизни (Розмова з Фшаретом, Патр1аршим Екзархом, митрополитом Кгавським 1 Галицьким) // Православний вкник. 1989. № 12. С. 28-29.
- бришев (1989) — бришев А. Гумашзм 1 моральне оновлення суспшьства // Людина 1 св1т. 1989. №11. С. 24-28.
- Жити надшю (1990) — Жити надшю. 1нтерв'ю з Патр1аршим Екзархом Украши, митрополитом Кгавським 1 Галицьким Фшаретом // Православний вкник. 1990. № 3. С. 21-22.
- За едшсть (1989) — За едшсть 1 перебудову. З прес-конференцп митрополита Фшарета, Екзарха Украши // Православний вкник. 1989. № 8. С. 21-23.
- Кисельов (2016) — Кисельов О. Монограф1я «Культура. Религия. Атеизм» як документ чаав перебудови // 1стор1я релшй в Укршш: Науковий щор1чник. 2016. № 2-3. С. 43-50.
- Колмакова (2017) — Колмакова М.В. Направления исследований религиозного сектантства в трудах советских ученых 60-80-х гг. ХХ в.: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.14. СПб., 2017.
- Колодный и др. (2010) — Колодный А. Н., Филипович Л. А., Яроцкий П. Л. Религиоведение Украины в советское время // Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Ч. I: Феномен советского религиоведения: украинский контекст / Коллект. работа. Под ред. А. Колодного, Л. Филипович, В. Шмидта и П. Яроцкого. М., 2010. С. 9-21.
- Курилов (2022) — Курилов В.А. Советская модель секуляризации: политическое и правовое регулирование свободы совести в СССР (вторая половина ХХ века). СПб.: Изд-во РХГА, 2022.
- Макарш Свистун (1989) — Макарш, архieпископ ¡вано-Франювський та Коломийський, Герасим'юк О. Благословен, хто любить // Людина 1 свгг. 1989. № 8. С. 15-19.
- Наука о религии (2015) — «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России XX — начала XXI в.: коллективная монография / К. М. Антонов [и др.]; [науч. ред.: К. М. Антонов, С. А. Воронцов]; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. 2-е изд. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015.
- Никодим Руснак (1989) — Никодим, митрополит Львiвський та Дрогобицький, Гуль-ко Я. Милосердя // Людина 1 свп\ 1989. № 10. С. 15-20.
- Панич (2015) — Панич О. Науковий ате1зм як культурна система // Украшське рель гшзнавство. 2015. № 76. С. 21-35.
- Смолкин (2021) — Смолкин В. Свято место пусто не бывает. История советского атеизма. М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- Творити добро (1988) — Творити добро, шукати ктину // Ки!в. 1988. № 9. С. 109-114.
- Узланер (2010) — Узланер Д.А. Советская модель секуляризации // Социологические исследования. 2010. № 6. С. 62-69.
- Фуко (2020) — Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой; вступ. ст. А. С. Колесникова. Изд. 3-е, стер. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2020.
- Чобич (1990) — Чобич С. I Церкви торкнулася перебудова // Православний вкник. 1990. № 2. С. 25-26.
- Шкаровский (2010) — Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. Москва: Вече; Лепта, 2010.
- Элбакян (2011) — Элбакян Е.С. Феномен советского религиоведения // Религиоведение. 2011. №3. С. 141-162.
- Ювшейний збiрник (1989) — Ювшейний збiрник праць Наукового Конгресу у 1000-лггтя Хрищення Руси-Украши. Мюнхен, 1988/1989.
- Powell (1991) — Powell D.E. The revival of Religion // Сш-rent History. 1991. Vol.90. P. 328-332.