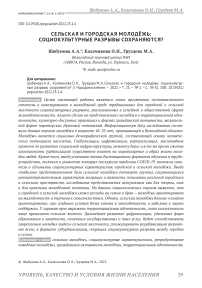Сельская и городская молодёжь: социокультурные разрывы сохраняются?
Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Калачикова Ольга Николаевна, Груздева Мария Андреевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения
Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящей работы является поиск аргументов состоятельности гипотезы о нивелировании в молодёжной среде традиционных для городской и сельской местности социокультурных разрывов, реализованных в семейной и общественной сферах жизнедеятельности. Акцент сделан на представлениях молодёжи о территориальной идентичности, культурно-досуговых практиках и формах гражданской активности, желательной форме партнерских (брачных) отношений. Информационную базу исследования составили данные опросов молодёжи в возрасте 18-35 лет, проживающей в Вологодской области. Молодёжь является социально-демографической группой, составляющей основу человеческого потенциала населения. Глобализация, цифровизация, виртуализация, масштабные проекты по развитию социальной инфраструктуры, ремонту дорог и в то же время сжатие пространства (урбанизация) существенно влияют на мировоззрение и образ жизни молодых людей. Кроме того, ввиду успешного опыта дистанционных форматов обучения и трудоустройства, толчком к развитию которых послужила пандемия COVID-19, возникла гипотеза о сближении социокультурных характеристик городской и сельской молодёжи. Ввиду стабильно представительной доли сельской молодёжи (четверть группы), сохраняющимся центростремительным характером миграции и важности понимания различий городского и сельского пространств, исследование представляется актуальным как для теории, так и для практики молодёжной политики. На данных социологических опросов выявлено, что у городской и сельской молодёжи схожи взгляды на семью и брак - молодёжь ориентирована на малодетность и терпима к сожительствам. Однако, сельская молодёжь больше «семейно ориентирована», при создании условий более готова к многодетности и лабильна к мерам поддержки. У горожан ярче выражена территориальная идентичность, хотя коллективизм чаще проявляют сельские жители. Дальнейшее развитие цифровизации, удаленных форм образования и занятости, получения государственных и иных услуг, будет способствовать закреплению молодых людей в сельской местности, стимулировать реурбанизацию (вероятнее всего, в формате субурбанизации), сокращая социокультурные разрывы между городом и селом.
Сельская молодёжь, социокультурные характеристики, репродуктивное поведение молодёжи, гражданская активность молодёжи, территориальная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/143178890
IDR: 143178890 | DOI: 10.19181/population.2022.25.2.4
Текст научной статьи Сельская и городская молодёжь: социокультурные разрывы сохраняются?
В формировании научной школы демографических и социодемографических исследований в Вологодской области существенную роль сыграла член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки России Н.М. Римашевская. В своих исследованиях она много внимания уделяла изучению потенциала детей и молодёжи. Так, еще в 1980 г. она высказала идею о необходимости проведения лонгитюдного исследования здоровья и развития детей во время их взросления. Подобное медикосоциологическое наблюдение реализовывалось в Великобритании с 1958 г. Национальным центром изучения детского развития (NCB) и с 1985 г. Центром многолетних исследований (CLS) [1]. Именно так коллективом Вологодского научного центра (ВолНЦ) РАН под руководством В. А. Ильина и при поддержке Правительства Вологодской области было начато лонгитюдное исследование факторов детского здоровья и развития. Результаты данной работы были многократно отражены на страницах журнала «Народонаселение» [2-4]. Исследование проводится по настоящее время под руководством А. А. Шабуновой и стало отправной точкой для развития серии исследовательских направлений по изучению потенциала детства и молодёжи [5–7]. Именно комплексный взгляд Н. М. Рима-шевской на количественные и качественные характеристики молодого поколения, рассмотрение его в качестве стратегического ресурса страны, носителя творческого потенциала и более высокой способности к креативной деятельности в сфере экономики [8; 9], взят за основу исследований ВолНЦ РАН в данном направлении.
Молодёжь является предметом анализа и интереса многих исследователей. С одной стороны, для данной группы характерны инновационность, креативность, высокие адаптивные качества (И. Ильинский, А. Ковалева, М. Реут, А. Тесленко). С другой — высокая степень неопределенности, неустойчивости социального и экономического положения может способствовать формирова- нию девиантности, дезадаптации (В.И. Чупров, Ю. А. Зубок, К. Уильямс, А. Ю. Жаданов и другие) [10–12]. Кроме того, молодёжь не является гомогенной группой, что требует отдельного изучения. Исследуются социально-экономическое положение, ценности и жизненные смыслы, гендерные характеристики, модели самоорганизации и так далее. Одним из важных исследовательских срезов является поселенческий. Так, современными исследователями изучаются различия между городской и сельской молодёжью в демографических характеристиках [13–15], удовлетворённости жизнью [16], жизненных стратегиях и ценностях [17–19], социальной активности [20], образовательных предпочтениях и траекториях [21; 22]. Вместе с тем активно идут процессы цифровизации, расширяющей доступ к культурным благам, информационным ресурсам, товарам и услугам онлайн, дистанционной занятости, реализуются масштабные проекты по строительству и ремонту дорог, повышению доступности и качества учреждений социальной сферы, благоустройству жилья в сельской местности, модернизации сельскохозяйственных производств, что могло способствовать стиранию социокультурных границ между молодыми людьми городской и сельской местности. Сравнительному анализу и поиску социокультурных разрывов между городской и сельской молодёжью на примере Вологодской области и посвящено данное исследование.
Методология и результаты
В эмпирическую основу статьи положены данные регулярных опросов, проводимых в Вологодской области: 1) условия жизни населения (6 раз в год). 2) репродуктивное поведение населения (1 раз в 2 года). 3) социокультурный портрет региона 1 . Исследователи дифференцированно подходят к определению возрастных границ молодого населения. В 2020 г. был пересмотрен
1 Выборка —1500 человек из 2 городов и 8 муниципальных районов Вологодской области, квотная по полу и возрасту, ошибка не превышает 5%, возраст опрошенных старше 18 лет, в опросе о репродуктивном поведении — старше 14 лет.
официальный возраст молодёжи в России и установлен в рамках 14-35 лет2. Учитывая это и тренды удлинения периода социализации молодых людей в нашем исследовании для анализа использован возраст 18–35 лет. Период исследования определен с 2008 по 2021 г. с целью оценки возможного влияния на социокультурные параметры молодёжи кризисных процессов (финансово-экономических — 2008 и 2012 гг., социального, обусловленного пандемией коронавирусной инфекции — 2020 и 2021 гг.). Для выявления поселенческих различий проведен анализ характеристик репродуктивного поведения и гражданской активности молодёжи, а также социокультурных параметров (культурные практики, территориальная идентичность, гражданская активность).
Низкий уровень рождаемости в России на фоне некоторых успехов снижения смертности привел к старению населения и сокращению численности молодых людей, проживающих как в городской, так и в сельской местности. За последние 15 лет численность молодёжи в возрасте 18–35 лет сократилась на 20% (с 41,4 млн человек в 2008 г. до 33,1 млн—в 2021 г.). В Вологодской области данный процесс более заметен — снижение составило 32% (с 350 тыс. человек в 2008 г. до 240 тыс.— в 2021 г.). При этом темпы урбанизации замедлились, доля городской молодёжи за период исследования выросла несущественно (менее процента в стране, около 3% в регионе). В сельской местности проживает чуть меньше четверти молодых людей: в России это порядка 8 млн человек, в Вологодской области — более 55 тысяч.
Социокультурные характеристики. Большая часть опрошенных молодых людей проживает в населённых пунктах на постоянной основе (85% в сельской местности, 80% в городской). Важной характеристикой является отношение к региону. В целом положительные оценки респондентов превалируют над отрицательными: в 2021 г. 57% сельской молодёжи и 62% городской были довольны местом проживания (табл. 1). Однако за исследуемый пе-
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к региону проживания?», %
Table 1
Distribution of answers to the question “What feelings do you have in relation to the region of residence?”, %
|
Вариант ответа |
Сельская молодёжь |
Городская молодёжь |
||
|
2008 |
2021 |
2008 |
2021 |
|
|
Я рад, что живу здесь |
29,2 |
26,4 |
30,1 |
23,5 |
|
В целом я доволен, но многое не устраивает |
39,0 |
30,8 |
46,8 |
38,0 |
|
В сумме положительные оценки |
68,2 |
57,2 |
76,9 |
61,5 |
|
Не испытываю особых чувств по этому поводу |
15,0 |
16,4 |
12,4 |
20,4 |
|
Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
В сумме негативные оценки |
15,0 |
21,4 |
12,4 |
25,4 |
|
Хотел бы уехать в другой регион России |
7,9 |
10,1 |
1,0 |
6,3 |
|
Хотел бы вообще уехать из России |
1,9 |
5,0 |
3,0 |
1,4 |
|
В сумме желание переехать |
9,8 |
15,1 |
4,0 |
7,7 |
|
Затруднились ответить |
7,0 |
6,3 |
6,7 |
5,4 |
|
Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
Источник: данные опроса «Социокультурный портрет Вологодской области» ВолНЦ РАН.
риод акцент сместился в пользу негативных оценок, которые выросли с 15 до 21% в муниципальных районах, с 12 до 25% — в городах. Следствием недовольства местом проживания становится нарастание миграционных настроений молодых людей, которые чаще демонстрирует сельская молодёжь.
В предыдущих исследованиях [23] была оценена территориальная идентичность жителей Вологодской области по трём уровням. Наиболее выраженной является поселенческая. Второе место по значению коэффициента интенсивности близости (Kиб) занимает региональная идентичность. С жителями столицы и страны в целом, жи- телями бывших республик СССР, мира (третий уровень) связь заметно слабее. При анализе мнений молодёжи данные выводы находят свое подтверждение (табл. 2). Заметно, что представители городской молодёжи имеют более выраженную территориальную идентичность на всех трёх уровнях. В 2021 г. по сравнению с 2008 г. значения Kиб к жителям своего поселения и региона увеличились, что, вероятно, связано и с повышением внимания к молодёжи со стороны региональных органов власти, выстраиванием патриотической компоненты молодёжной работы.
Таблица 2
Коэффициент интенсивности близости с жителями различных типов мест*
Table 2
Coefficient of intensity of proximity with residents of different types of places
|
Вариант ответа |
Сельская молодёжь |
Городская молодёжь |
||||
|
2008 |
2021 |
Динамика |
2008 |
2021 |
Динамика |
|
|
Жители поселения, в котором я живу (деревня, село, город) |
4,6 |
8,7 |
4,1 |
10,5 |
11,1 |
0,5 |
|
Жители всей моей области |
1,8 |
2,7 |
0,9 |
3,9 |
7,4 |
3,5 |
|
Жители Москвы — столицы России |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
2,3 |
1,7 |
-0,6 |
|
Жители всей России |
0,4 |
0,8 |
0,4 |
0,8 |
1,1 |
0,3 |
|
Жители бывших республик СССР |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,7 |
1,3 |
0,5 |
|
Жители всей Земли |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,7 |
0,6 |
-0,1 |
*Коэффициент рассчитывается как отношение доли населения, отметившего близость, к доле, отметившего отдалённость.
Источник: опрос «Социокультурный портрет Вологодской области» ВолНЦ РАН, 2008 и 2021 годы.
Самыми важными факторами миграционных намерений для молодых людей в сельской местности являются возможности для получения образования и трудоустройства. Однако «для закрепления и качественной жизни выбор индивида обусловлен как объективными факторами (состоянием базовых социальных институтов — образования, здравоохранения, культуры, спорта, рынка труда), так и субъективными (индивидуальной предрасположенностью к сельскому образу жизни — экологии, определенным ритму жизни и качеству социальных свя- зей) » [24]. Представители сельской молодёжи гораздо реже пользуются практически всеми видами культурных услуг, причём наиболее наглядно это прослеживается по доле людей, которые никогда ими не пользовались (табл. 3). Безусловно, причина кроется в ограниченной доступности самой инфраструктуры в сельской местности [25], однако ряд исследователей связывают это с более низкой заинтересованностью сельской молодёжи в подобного рода досуге в виду образа жизни и работы, дороговизной для бюджета молодых людей [26].
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы пользуетесь услугами учреждений в сфере культуры, досуга и спорта (участвуете в мероприятиях)?», %
Table 3
Distribution of answers to the question “How often do you use the services of institutions in the field of culture, leisure and sports (do you participate in events)? “, %
|
Вариант ответа |
Сельская молодёжь |
Городская молодёжь |
|
Кинотеатров |
||
|
Несколько раз в месяц |
6,9 |
13,1 |
|
Никогда |
43,4 |
14,0 |
|
Музеев |
||
|
Несколько раз в месяц |
1,3 |
3,6 |
|
Никогда |
57,2 |
35,3 |
|
Театров |
||
|
Несколько раз в месяц |
1,3 |
4,1 |
|
Никогда |
69,0 |
33,9 |
|
Библиотек |
||
|
Несколько раз в месяц |
5,0 |
6,3 |
|
Никогда |
56,6 |
48,0 |
|
Парков |
||
|
Несколько раз в месяц |
19,0 |
33,3 |
|
Никогда |
36,1 |
8,2 |
|
Городских/сельских праздников |
||
|
Несколько раз в месяц |
10,1 |
14,5 |
|
Никогда |
31,4 |
13,2 |
Источник: опрос «Социокультурный портрет Вологодской области» ВолНЦ РАН, 2021 год.
Несмотря на существенную разницу в доле участников культурных практик, рейтинг досуговых интересов молодёжи в городе и селе схож. Так, услугами библиотек пользуются одинаково мало, реже всего посещают театры, клубы по интересам, а первые 3 места по популярности занимают городские и сельские праздники, кинотеатры и парки. Какие-то формы досуга устаревают, замещаются другими форматами (услуги библиотек), а формы досуга, связанные с общением, определяют востребованность праздников и кинотеатров, как мест встреч, к тому же «бюджетных».
Одним из эффективных инструментов сближения населения территорий, повышения доступности услуг является цифровизация. В данном случае можно с уверенностью говорить о сближении городской и сельской молодёжи: если в 2008 г. 62% городской молодёжи и толь ко 32% сельской пользовались интернетом, то к 2021 г. эти доли выросли до 98% в городах и 96% в сёлах. Представители сельской молодёжи активно используют возможности интернета, не уступают городским в развитости цифровых навыков (по самооценкам), чаще пользуются социальными сетями (80% против 76%), реже — мессенджерами (48% против 70%), и получением государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Интересен вывод о том, что сельская молодёжь реже сталкивается с негативными проявлениями использования интернета. Только 11% связывают ухудшение физического здоровья с ним (соизмеримо оценкам городской молодёжи), в 4 раза реже указывают на возникновение зависимостей (4% против 17%), и вдвое — на ухудшение психологического самочувствия (4% против 9%).
Репродуктивное поведение молодёжи. Представления о семье, браке, дет- ности — один из важных аспектов жизни и параметров социокультурного портрета молодёжи как с точки зрения репродуктивного потенциала, так и с точки зрения норм и ценностей. Сельская молодёжь чаще ориентирована и на регистрацию брака, и на сожительства за счет меньшей, чем среди горожан, доли затруднившихся ответить. Это может свидетельствовать о том, что сельские жители в принципе в большей степени ориентированы на семью и легитимацию сожительств [27].
Репродуктивные установки сельских молодых людей в кризисный 2008 г. были ниже, чем у горожан (табл. 4). Однако они оказались более отзывчивы к мерам, реализуемым в рамках демографической политики последних лет. Опросы
2017 и 2021 гг. зафиксировали традиционно более высокие ожидания детности у селян и менее существенный разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей, а в 2021 г. планы даже превысили намерения. Вероятно, это обусловлено тем, что для сельской местности меры поддержки семей с детьми, в частности, материнский капитал и увеличенные пособия по уходу за детьми, имели более высокую значимость. Среди детерминант малодет-ности сельские молодые люди чаще отмечали низкие доходы, плохие жилищные условия, при этом они реже видят в детях помеху карьере и среди них меньше ориентированных на малодетность в принципе (вариант ответа «столько детей мне вполне достаточно» выбрали 38% предста-
Таблица 4
Характеристики репродуктивного поведения молодёжи Вологодской области
Table 4
Characteristics of reproductive behavior of y outh in Vologda oblast
|
Вариант ответа |
Городская молодёжь |
Сельская молодёжь |
||||
|
2008 |
2017 |
2021 |
2008 |
2017 |
2021 |
|
|
Какому браку Вы отдаёте предпочтение? |
||||||
|
Зарегистрированному браку |
65,6 |
67,7 |
59,8 |
62,9 |
59,8 |
64,4 |
|
Совместному проживанию, без регистрации в ЗАГСе (сожительство) |
21,4 |
12,9 |
13,3 |
20,1 |
9,4 |
15,6 |
|
Затрудняюсь ответить |
12,1 |
18,8 |
26,6 |
16,3 |
30,5 |
20,0 |
|
Предпочитаемые числа детей |
||||||
|
Среднее желаемое число детей |
2,02 |
2,22 |
2,04 |
1,96 |
2,29 |
2,04 |
|
Доля молодёжи, ориентированной на многодетность (по желаемому числу детей) |
17,9 |
27,6 |
20,5 |
15,5 |
28,4 |
21,7 |
|
Среднее планируемое число детей |
1,89 |
1,97 |
1,95 |
1,84 |
2,07 |
2,10 |
|
Доля молодёжи, ориентированной на многодетность |
13,1 |
18,2 |
19,7 |
12,1 |
20,2 |
23,7 |
|
Если Вы планируете иметь менее трёх детей, укажите причины, по которым Вы не хотите иметь больше |
||||||
|
Низкие доходы населения и дороговизна товаров |
54,5 |
44,3 |
45,1 |
58,4 |
55,4 |
51,2 |
|
Нестабильная экономическая обстановка в стране |
34,1 |
44,0 |
44,4 |
41,6 |
47,4 |
41,2 |
|
Столько детей мне вполне достаточно |
42,9 |
53,6 |
53,1 |
52,4 |
42,9 |
38,2 |
|
Плохие жилищные условия |
54,0 |
26,3 |
26,6 |
42,8 |
28,0 |
37,6 |
|
Много детей в семье препятствует карьере (отдыху) |
15,3 |
9,3 |
16,1 |
9,0 |
2,9 |
9,4 |
|
Неудовлетворительное состояние здоровья |
нет |
6,9 |
7,3 |
нет |
4,0 |
8,8 |
|
Семейная традиция иметь мало детей в семье |
7,2 |
5,7 |
3,1 |
4,2 |
1,1 |
8,2 |
|
Многодетность никак не поощряется государством |
11,8 |
6,9 |
7,0 |
15,1 |
8,0 |
8,2 |
|
Роды — это риск для здоровья женщины |
11,6 |
7,5 |
9,1 |
16,3 |
4,0 |
5,9 |
|
Риск остаться без работы |
5,0 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
5,1 |
0,0 |
Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала и поведения населения Вологодской области ВолНЦ РАН.
вителей сельской молодёжи против 53% у горожан).
Сельская молодёжь более критична к абортам. Среди них только 8% считают аборт допустимым, среди горожан — 17%. При этом на отсутствие абортов в анамнезе у себя или у партнёрши указали 70% горожан и 58% сельских жителей, то есть понимание «вредности» абортов декларативно, по факту сельские пары прибегают к данному способу планирования семьи довольно часто. На селе меньше склонны считать допускающими аборт такие обстоятельства как материальные трудности, нездоровье ребенка и тот факт, что беременность наступила в результате изнасилования. А вот если беременность несет риск здоровью матери, эту причину селяне считают более значимой, чем городские жители. Сохраняются различия сексуального дебюта: среди городской молодёжи выше доля, начавших половую жизнь до 16 лет — 11% против 7%, хотя расчёт среднего возраста дает одинаковые значения — 18 лет. До совершеннолетия начали половую жизнь около половины горожан и 40% селян. Возможно, что сельские жители склонны скрывать реальный возраст секс-дебюта ввиду социокультурных особенностей локального сообщества. Такой маркер, как использование контрацепции при первом половом контакте говорит об их относительно низкой контрацептивной культуре (68% первых сексуальных контактов были не защищены у сельской молодёжи и 40% — у городской).
Гражданская активность молодёжи. В современных условиях обостряется проблематика участия молодёжи в общественной жизни. С одной стороны, именно данная группа может влиять на настоящее и будущее места своего проживания, с другой стороны, сокращение данной когорты требует поиска инструментов повышения её гражданской активности [28]. В целом гражданская активность молодёжи невысокая — 58% представителей сельской и 59% городской молодёжи называют свое участие пассивным и скорее пассивным. Более высокая доля членства в обще- ственных организациях характерна для городской молодёжи (5% против 2%), хотя в сельской местности молодые чаще говорят о том, что некоммерческие и общественные организации оказывают большое влияние на жизнь в регионе (17% против 9%).
Наблюдаются и различия в формах проявления активности — представители сельской молодёжи несколько чаще участвуют в выборах (57% против 48%), коллективном благоустройстве и субботниках (38% против 20%), в сборе средств, пожертвований, вещей (13% против 9%), в деятельности профсоюзов и НКО (6% против 4% в обоих случаях). Не проявляли активности ни в каких формах 33% сельской молодёжи и 39% — городской.
Анализ препятствий для проявления людьми своей гражданской позиции позволяет судить о большем индивидуализме, надежде на готовые решения власти и невозможности оказать на них влияние, а также недостатке времени у городской молодёжи. В то время как у сельской — несколько меньше выражено безразличие к общественным делам, есть надежда на возможность успешного влияния на решения власти и нет выраженного недостатка временного ресурса, однако есть сложности с самоорганизацией. В 2021 г. было выявлено, что активность в онлайн среде более характерна для горожан: они чаще пользуются возможностями онлайн-обра-зования (31% против 8% в сельской местности), проведения досуга (20% против 10%). Практики распространения онлайн-благотворительности разняться меньше: 20% молодых людей, проживающих в городе, и 14% — в селе участвовали в сборе вещей и денег для нуждающихся, причем в сельской местности молодые люди чаще отзываются на помощь, чем в городе (54% молодых людей из города указали, что не помогают, даже если знают о проблеме, в сёлах таких ответов значительно меньше — 38%), что косвенно может свидетельствовать о большей территориальной идентичности, коллективизме и альтруизме селян.
Заключение
Гипотеза о сокращении социокультурных разрывов городской и сельской молодёжи вследствие реализации масштабных проектов по связанности пространства и обеспечения населения услугами социальной сферы, цифровизации подтвердилась отчасти. Исследование показало, что социально-демографический портрет сельской и городской молодёжи продолжает сохранять ряд различий, обусловленных условиями и образом жизни городской и сельской среды. При общих тенденциях ориентации на малодетность и допустимость сожительств, сельская молодёжь в большей степени ориентирована на семейно-детный образ жизни, число потенциально многодетных по-прежнему выше в сельской местности. Можно судить, что городская молодёжь относится к рождению детей более осторожно, осознает затратность их воспитания, сложности, связанные с совмещением трудовой деятельности и родительских функций. В силу субъективно воспринимаемых меньших рисков среды сельских населённых пунктов, а также сохранения функциональных связей с родительскими семьями, более тесным связям с односельчанами, сельская молодёжь легче относится к воспитанию детей. Отметим, что сохраняются различия контрацептивной культуры — в сельской местности она ниже.
Территориальная идентичность городской молодёжи выражена ярче, свою близость с жителями поселения, региона они чувствуют сильнее. Однако, к данным ответам стоит подходить взвешенно. Ощущения близости-отдаленности, особенно в молодом возрасте, часто связаны с удовлетворенностью условиями жизни. В сельской местности объективно ниже доступность качественных услуг социально-досуговой сферы, есть проблемы с получением образования и трудоустройством, что порождает миграционные настроения.
О наличии консолидирующего потенциала, гражданской активности сельских жителей свидетельствует их осведомленность о деятельности НКО и участие в их работе, а также иных формах гражданской активности. Сельская молодёжь более отзывчива, менее пессимистична в успешности проявления людьми своей гражданской позиции, причины неуспеха видит в неорганизованности и индивидуализме самих людей.
Предположение о влиянии цифровизации на выравнивание социокультурных характеристик городской и сельской молодёжи оказалось верным, но были выявлены различия в характере вовлечённости. Собственно, освоение цифровой среды, развитие навыков и использование её преимуществ почти не различается. Сельская молодёжь видит больше возможностей и меньше недостатков цифровизации. Возможно, это связано с особенностями организации жизни в сельской местности, где жизнеобеспечивающие повседневные практики детерминируют глубину виртуализации, не позволяя уделять столько времени и внимания сети, как в городах. Сельская местность остается очагом сбережения российской самобытности, для которой более характерны близость с природой, доверие к людям, оптимизм, уважение к «людям дела» и труду. Дальнейшие процессы урбанизации, сжатия пространства повлекут выравнивание условий воспитания молодых людей, жизненных стратегий, которые будут адаптироваться к критериям успешности городского социума.
Список литературы Сельская и городская молодёжь: социокультурные разрывы сохраняются?
- Шабунова, А. А. Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга / А. А. Шабунова, М. В. Морев, Н. А. Кондакова.- Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012.- 262 с.
- Шабунова, А.А. Качество нового поколения / А. А. Шабунова // Народонаселение.— 2012.— № 3(57). — С. 83-90.
- Римашевская, Н.М. Мониторинг подрастающего поколения: тенденции и особенности развития / Н. М. Римашевская, Е. Б. Бреева, А. А. Шабунова, Р. Т. Барсукова // Народонаселение.— 2007.— № 1(35). — С. 18-31.
- Римашевская, Н.М. Здоровье детей: тенденции и перспективы / Н. М. Римашевская, Е. Б. Бреева, А. А. Шабунова // Народонаселение.— 2008.— № 3(41). — С. 4-16.
- Молодёжь современной России — ключевой ресурс модернизации / под общ. ред. А. А. Шабу-новой. — Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013.— 151 с.
- Шабунова, А.А. Сохранение здоровья детей: поиск путей решения актуальных проблем / А. А. Шабунова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун, И. Н. Разварина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.— 2021.— № 2.—С. 125-144. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.8.
- Короленко, А.В. Человеческий потенциал детского населения: понимание и оценка / A. В. Короленко, А. Н. Гордиевская // Социальное пространство.— 2018.— № 5(17). — С. 1-17. DOI: 10.15838/sa.2018. 5.17.3.
- Римашевская, Н. М. «Поле» детства / Н. М. Римашевская, Е. Б. Бреева // Народонаселение.— 2011.— № 4. — С. 17-26.
- Римашевская, Н.М. Дети и молодёжь новой России / Н. М. Римашевская // Народонаселение.— 2012.— № 3(57). — С. 78-83.
- Гудков, Л. Д. Молодёжь России / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин, Н. А. Зорская — Москва: Московская школа политических исследований, 2011.— 96 с.
- Горшков, М.К. Молодёжь России: социологический портрет / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги.— Москва: Институт социологии РАН, 2010.— 592 с.
- Горшков, М.К. Молодёжь России в зеркале социологии: к итогам многолетних исследований / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. — Москва: ФНИСЦ РАН, 2020.— 688 с.
- Мухаметзянова, Л.К. Миграция сельской молодёжи в современных условиях / Л. К. Муха-метзянова, Р. Р. Хизбуллина // Социология. — 2018.— № 4. — С. 102-105.
- Павлов, Б. С. К вопросу о социально-поселенческой ассимиляции сельской молодёжи в уральских городах / Б. С. Павлов // Социология города. — 2014.— № 4.— С. 15-26.
- Калачикова, О. Н. Рождаемость и демографические установки молодёжи / О. Н. Калачикова // Проблемы развития территории. — 2013.— № 2(64). — С. 64-74.
- Фарахутдинов, Ш. Ф. Удовлетворенность жизнью сельской молодёжи в Западно-Сибирском регионе России / Ш. Ф. Фарахутдинов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2017.— № 5. — С. 233-250.
- Старкова, Е. В. Влияние пола и предшествующей социальной среды (город/село) на представления студенческой молодёжи о жизненных целях / Е. В. Стракова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология.— 2011.— № 2.— С. 200-206.
- Акулич, М.М. Жизненные стратегии современной молодёжи / М. М. Акулич, В. В. Пить // Вестник Тюменского государственного университета. — 2011.— № 8. — С. 34-43.
- Зубок, Ю.А. Культура в жизни молодёжи: потребность, интерес, ценность / Ю. А. Зубок, B. И. Чупров // Вестник Института социологии. — 2018. — Т. 9.— № 4(27). — С. 170-191.
- Сухова, Е. А. Потенциал и реализация социальной активности городской и сельской молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа / Е. А. Сухова // Управление устойчивым развитием.— 2021.— № 3(34).— С. 68-73.
- Чередниченко, Г. А. Система образования и пути молодёжи / Г. А. Чередниченко // Россия реформирующаяся.— 2017.— № 15. — С. 175-198.
- Иванова, О.А. Образование и занятость как факторы миграции сельской молодёжи Алтайского края: что изменилось с начала 2000-х? / О. А. Иванова, А. М. Сергиенко // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. — 2016.— Ns 14. — С. 28-34.
- Груздева, М. А. Социокультурные характеристики населения регионов Северо-Западного федерального округа: общее и особенное / М. А. Груздева, О. Н. Калачикова // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. — 2019.— Т. 3.— W 3. — С. 306-316.
- Шадриков, А. В. Село как пространство идентификации молодёжи / А. В. Шадриков // Дискуссия.— 2017.— W 4. — С. 80-86.
- Ласточкина, О. С. Особенности социально-культурной инфраструктуры в современной России / О. С. Ласточкина // Развитие территорий.— 2021.— W 4(26). — С. 20-31.
- Яковлева, Т.Н. Особенности досуга современной сельской молодёжи / Т. Н. Яковлева, О. В. Леонова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионо-ведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология.— 2020.— W 4. — С. 208-214.
- Калачикова, О.Н. Некоторые аспекты репродуктивного поведения студенческой молодёжи / О. Н. Калачикова // Высшее образование в России. — 2012.— W 3. — С. 132-136.
- Уханова, Ю.В. Гражданское участие российской молодёжи (итоги социологического исследования) / Ю. В. Уханова, К. Е. Косыгина // Проблемы социального неравенства и социальной адаптации: материалы I Летней молодежной школы социальных наук академика РАН М. К. Горшкова (Вологда, 23-25 июня 2021 г.). — Вологда: ВолНЦ РАН, 2021.— С. 82-90.