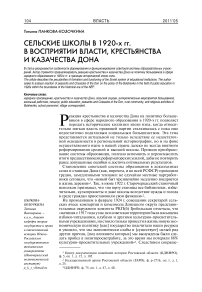Сельские школы в 1920-х гг. в восприятии власти, крестьянства и казачества Дона
Автор: Панкова-Козочкина Татьяна Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются особенности формирования и функционирования советской системы образовательных учреждений. Автор стремится проанализировать реакцию крестьянства и казачества Дона на политику большевиков в сфере народного образования в 1920-х гг. в границах исторической эпохи нэпа.
Народное просвещение, крестьянство и казачество дона, сельский социум, антирелигиозные мероприятия большевиков, школьный работник, селькор
Короткий адрес: https://sciup.org/170165816
IDR: 170165816
Текст научной статьи Сельские школы в 1920-х гг. в восприятии власти, крестьянства и казачества Дона
Р еакция крестьянства и казачества Дона на политику большевиков в сфере народного образования в 1920-х гг. позволяет передать исторические коллизии эпохи нэпа, когда относительно мягкая власть правящей партии сталкивалась с пока еще недостаточно податливым социальным большинством. Эта тема представляется актуальной не только вследствие ее недостаточной освещенности в региональной историографии, но и на фоне осуществляемого ныне в нашей стране далеко не всегда внятного реформирования средней и высшей школы. Проводя преобразование системы образования, полезно вспомнить и переосмыслить итоги предшествующих реформаторских усилий, дабы не повторить ранее допущенные ошибки и достичь оптимальных результатов.
Становление советской системы образования в доколхозных селах и станицах Дона (как, впрочем, и во всей РСФСР) проходило трудно, замедленными темпами: не случайно местные партработники сетовали, что «новый быт чрезвычайно медленно внедряется в жизнь деревни»1. Так, в июне 1922 г. Старочеркасский станичный исполком признавал, что «по юрту станицы все библиотеки, избы-читальни, культпросветы и даже школы вследствие нужды и голода в среде граждан приостановили свои функции»2.
На проходившем в феврале 1924 г. совещании секретарей сельских ячеек компартии и комсомола Донецкого округа представительница окружного комитета РКП(б) Гребельская отмечала, что «начиная с 1917 года у нас вся советская территория была насыщена избами-читальнями, клубами и другими культурно-просветительными учреждениями, но стоило только провести в жизнь новую экономическую политику [как] государство подсчитало наши ресурсы и увидело, что мы экономически слабы и [существует] целый ряд других причин, [под влиянием которых] мы вынуждены были сделать пробел в политпросветработе, за это время мы потеряли 88% культурно-просветительных учреждений»3. Следствием сокраще- ния финансирования являлась невысокая численность сельских школ, а также ограниченность мест в них.
Крестьяне иронизировали по этому поводу, говоря, что «в иных местах в царское время было больше школ»1. Действительно, в целом ряде станиц и сел Дона школы и народные училища возникли еще в дооктябрьские времена.
Разумеется, сельские жители выражали вполне понятное и обоснованное недовольство как тяжелым положением учреждений народного просвещения, так и слабым вниманием органов власти к ним. Вместе с тем земледельцы готовы были на некоторое время примириться с недостатками системы образования, т.к. их в большей мере заботило не столько состояние школ, сколько скромное количество таковых, не удовлетворявшее запросы крестьянства и казачества Дона.
Изучавший тогда проблему М. Темкин утверждал, что приоритетом для жителей деревниявляетсянекачество,аколичество учебныхзаведений:«“Откройтешколы!”– вот вопль, который несется решительно изо всех сел и станиц»2. В этом случае крестьянская логика была проста и полностью отвечала характерным для менталитета российских земледельцев общинным, уравнительным представлениям. На одном из районных совещаний в Донском округе Северо-Кавказского края в 1926 г. представители крестьянства следующим образом объяснили свою позицию: «хорошее качество школ, охватывающих, скажем, 50 % детского населения школьного возраста, никоим образом не устраивает 50% детей, остающихся за бортом школы. И решительно все крестьяне на совещании в один голос заявили: количество и только количество (курсив источника – Авт. )»3.
Чувство общинного коллективизма и социальной справедливости заставляло донских хлеборобов не только возмущаться ограниченностью мест в немногочисленных и небольших по размерам сельских учебных заведениях, но также протестовать против классовой политики большевиков в сфере народного образования. Двери школ широко открывались перед детьми сельской бедноты, но доступ в них был существенно затруднен или вовсе невозможен для потомков зажиточных крестьян и, тем более, «кулачества». Классовый подход довольно критично воспринимался крестьянами, в глазах которых бедняк являлся презренным лодырем, а зажиточный хозяин – образцом для подражания и объектом уважения.
Затрудненность доступа в школу особенно болезненно воспринималась теми крестьянами и казаками, которые стремились дать своим детям образование. Здесь необходимо отметить, что в 1920-х гг. сельский социум не был единым в вопросах о том, надо ли, во-первых, вообще учить детей и, во-вторых, в течение какого времени следует давать им знания (иначе говоря, насколько полным и глубоким должен быть процесс обучения). Некоторая часть сельских жителей не желали отдавать детей в школу, предпочитая, чтобы те помогали по хозяйству. Другие не считали возможным тратить даже небольшие деньги на обеспечение учебы своих чад, на приобретение для них зимней одежды, тетрадей, чернил и пр. Современники указывали, что основной причиной непосещения школ крестьянскими детьми, конечно, является бедность населения. Недостаток одежды, обуви, учебников и тетрадей играет в этом отношении решающую роль.
Тем не менее подавляющее большинство сельских жителей выступали за то, чтобы их дети регулярно посещали школу. Правда, относительно длительности обучения единого мнения не существовало: это касалось как общего срока пребывания крестьянских детей в учебном заведении, так и количества каждодневных уроков.
В 1926 г. среди хлеборобов Донского округа было проведено анкетирование с целью выяснения их отношения к сложившейся системе образования. В анкетировании приняли участие 1 400 чел., ответивших на внушительный список вопросов. Ответы респондентов доказывали, что среди крестьян наличествуют как довольно значительные по численности группы сторонников традиционных норм обучения, так и не менее многочисленная когорта приверженцев просвещения и модернизации. Вопрос о том, достаточно ли часов ученики проводят на уроках в течение каждого учебного дня, не вызвал среди анкетируемых существенных разно- гласий. Подавляющее большинство опрошенных, или 81,25%, были убеждены, что их дети занимаются в школе достаточно времени, а 8,9% высказались за увеличение учебной нагрузки. Только 1,3% находили, что дети занимаются слишком долго, а остальные 8,55 % дали «неопределенные ответы»1. Здесь крестьяне явно отдавали дань традициям, полагая, что слишком уж долго держать их детей за партами не следует и достаточно будет двух-трех уроков каждый день.
Зато вопрос о том, сколько лет крестьяне хотели бы обучать детей в школе, разделил опрошенных на ряд не согласных друг с другом групп. Самая большая группа единомышленников, составлявшая 30% всех опрошенных, высказалась за минимальный срок обучения, составлявший 1–2 года. Такие крестьяне считали, что их чадам достаточно будет научиться считать, читать и сносно писать; здесь явно было заметно стремление к обучению «по старинке», к характерной для досоветской деревни минимизации затрат времени и средств на «грамоту». Однако не столь уж мало среди крестьян и казаков Дона оказалось и тех, кто желал, чтобы их дети учились в школе дольше и получили как можно больше знаний. 22% опрошенных высказались за трехлетний срок обучения, 27% – за четырехлетний. Еще 8,2% анкетируемых выразили желание обучать своих детей в школе-семилетке или школе крестьянской молодежи (ШКМ), за посещение своими детьми школы-девятилетки высказались 9,5% земледельцев. Наконец, 3,3% опрошенных даже хотели предоставить своим детям возможность получить высшее образование2. Эти ответы ясно свидетельствовали, что доколхоз-ная деревня не являлась столь «дикой» и «кондовой», как характеризовали ее представители большевистского руководства: значительная группа крестьян была готова принять участие в модернизации сельского мироустройства.
Вполне традиционно донские хлеборобы подходили к определению перечня учебных предметов, которые следовало изучать в школе. На вопрос, чему должна обучать школа, крестьяне и казаки отвечали: «как учили раньше, так продолжать и теперь», «согласен со всеми предметами, какие преподаются в школе, нужно только закон божий добавить», «[надо учить] арифметике, чтению, письму, закону божьему, географии, геометрии и государственному закону», «грамоте и сельскому хозяйству»3.
Следует отметить процитированные выше заявления крестьян и казаков Дона о желательности сохранения в советской школе такого предмета, как Закон Божий. Многие донские земледельцы были настолько недовольны отсутствием в школьной программе основ православной веры, что не желали отдавать туда детей. Но в период нэпа, когда большевистский режим правил страной сравнительно мягкими методами, у некоторых приверженцев религии в сельской местности нашлась узенькая, но все же лазейка: они отдавали своих детей в частные школы. Так, в 1926 г. в селе Круглом Азовского района Донского округа проверявшая работу местных учебных заведений комиссия случайно обнаружила «три частных школы, в которых преподавался закон божий»4. Повторимся, однако, что это были единичные случаи, существенно не влиявшие на положение дел в сфере народного образования в селах и станицах Дона. Как бы ни хотели крестьяне и казаки вернуть в процесс обучения Закон Божий, большевистский режим не собирался идти им навстречу.
Итак, на протяжении 1920-х гг. крестьянство и казачество Дона демонстрировало весьма неоднозначное отношение к подвергнутой советским преобразованиям системе народного образования. Большинство хлеборобов поддерживали партийно-советские органы в их стремлении охватить школьным обучением максимально возможное количество детей, но критиковали власти за слабое внимание к нуждам школ и учителей, чрезмерную политизацию школьной программы, изгнание из нее Закона Божьего. Тем не менее критика недостатков и упущений в сфере школьного обучения не могла стимулировать антибольшевистские настроения в донских селах и станицах эпохи нэпа, поскольку усилия компартии в деле народного просвещения все же положительно характеризовались большинством крестьян и казаков.
1 Там же, с. 132.
2 Там же, с. 131.