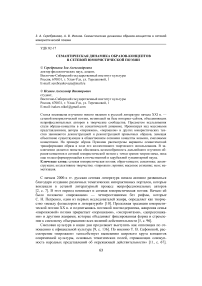Семантическая динамика образов-концептов в сетевой юмористической поэзии
Автор: Серебрякова Зоя Александровна, Исаков Александр Викторович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Концепты в литературе
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению нового явления в русской литературе начала XXI в. - сетевой юмористической поэзии, возникшей на базе интернет-сайтов, объединяющих непрофессиональных авторов в творческие сообщества. Предметом исследования стали образы-концепты в их семантической динамике. Иронизируя над массовыми представлениями, авторы «пирожков», «порошков» и других юмористических текстов занимаются деконструкцией и реконструкцией привычных образов, замещая объективно существующие в общественном сознании концепты новыми, смеховыми концептами. На примере образа Пушкина рассмотрены варианты семантической трансформации образа в ходе его коллективного творческого использования. В заключении делается попытка обосновать целесообразность дальнейшего изучения образов-концептов в сетевой юмористической поэзии с точки зрения теории мема, пока еще только формирующейся в отечественной и зарубежной гуманитарной науке.
Сетевая юмористическая поэзия, образ-концепт, семантика, деконструкция, коллективное творчество, пирожки, ирония, массовое сознание, мем, ме-метизация
Короткий адрес: https://sciup.org/148317733
IDR: 148317733 | УДК: 82-17
Текст научной статьи Семантическая динамика образов-концептов в сетевой юмористической поэзии
С начала 2000-х гг. русская сетевая литература начала активно развиваться благодаря созданию различных тематических интерактивных порталов, которые вовлекали в сетевой литературный процесс непрофессиональных авторов [2, с. 7]. В этот период возникает и сетевая юмористическая поэзия. Начало ей было положено «пирожками» — четверостишиями без рифмы, которые С. Н. Петренко, один из первых исследователей жанра, определяет как творчество «между фольклором и литературой» [10]. Продолжая традиции юмористической поэзии XX в. и подпитываясь поэтикой постмодернизма, жанровая семья «пирожковой» поэзии прирастает «порошками», «экспромтами», «депрессяшка-ми» и другими жанрами, которые объединяет фиксированная форма и стремление к смеховому обыгрыванию всех явлений действительности [5, с. 96].
Смеховая культура в наши дни продолжает выступать как оппозиция по отношению к официальной культуре [9, с. 136]. По мнению Т. В. Сафоновой, рассмотрение «пирожков» «способствует выявлению широкого круга концептов современной культуры, основных тематических полей, отражающих совокупность народных представлений об окружающей действительности» [11, с. 67].
Необходимо добавить, что авторам «пирожков» не чужда интеллектуальная ирония, поэтому концепты народной и массовой культуры входят в «пирожки» не непосредственно, а уже изначально подвергаясь комическому переосмыслению. Так, образы-концепты российской культуры предстают в новом для себя качестве, покинув привычный контекст и превратившись в объект семантической игры. Рассмотрим процессы, ведущие к трансформации привычных концептов в «пирожках». В качестве примера возьмем образы деятелей российской истории и культуры, чьи имена стали неотъемлемой частью культурного кода россиянина в XX в.
Катализатором процессов семантической динамики в сетевой юмористической поэзии является особый тип творчества, при котором индивидуальное авторство сочетается с коллективным опытом использования одних и тех же образов [6, с. 68]. Вследствие этого мы можем говорить об истории одного образа и рассматривать трансформацию его семантики в различных стихотворениях, не обращая внимания на авторство.
Вхождение образов-концептов в «пирожковую» поэзию, как правило, сразу сопровождается их деконструкцией, т.е. обновлением значения в новом контексте, при котором все прежние ассоциации начинают работать на усиление комического эффекта, основанного на абсурдности изображенной ситуации. Приведем пример одного из ранних «пирожков»: « мой друг сказался самураем / и к пушкину в троллейбус сел / а петросян был там кондуктор / а достоевский контролер» . От образов-концептов здесь остались лишь имена и нет никакой явной связи между всеми собранными в одном «пирожке» персонажами. Сам факт использования прецедентных имен означает включенность текста в контекст российской культуры, ведь «прецедентные имена — это важная составляющая национальной картины мира, способствующая стереотипизации и оценке действительности в народном сознании» [12, с. 104]. Нарочитая бессмыслица, акцент на внешний комический эффект были естественны в интернет-культуре 2000-х: вспомним хотя бы «язык падонкаф» — своеобразный антипод литературного русского языка, абсолютно игнорирующий принципы орфографии. Сетевая юмористическая поэзия — это тоже в некотором роде «антилитература», намеренно нарушающая законы привычного мышления и сложившиеся каноны. Антрополог А. Г. Козинцев считает, что в основе смеховой культуры лежит способность человека временно «возвращаться» на предыдущие этапы своего культурного развития, но уже относясь к ним несерьезно [7, с. 59]. В свете этой теории можно объяснить специфику юмора «пирожков» по отношению к значимым образам российской культуры.
«Пирожки» знаменуют начало новой демократической интернет-культуры, которая приходит на смену централизованной культуре печатных СМИ и телевидения. Взгляд «пирожковых» поэтов на центральные фигуры российской истории и культуры вплоть до конца XX в. — это взгляд на собственное прошлое, которое теперь может быть комически переосмыслено, освобождено от канонов, некогда созданных учеными, политиками, журналистами. Авторы «пирожков» притворяются людьми, не знающими объективного значения образов Пушкина или Достоевского в российской культуре, и начинают создавать юмористические ложные образы, замещая ими устоявшиеся концепты. Смеховую культуру Рунета можно исследовать, опираясь на концепцию карнавала М. М. Бахтина: существенными моментами карнавала он называет переодевание, обновление, перемещение иерархического верха в низ [1, с. 94]. Это обновление путем ниспровержения присутствует и в сетевой юмористической поэзии: общеизвестные образы вдруг теряют свою освященную традицией уникальность, их начинают пародировать, превращать в собственную противоположность, имена отрываются от конкретных личностей, а безымянные авторы как бы возносятся над великими людьми прошлого (ср.: «я почти как пушкин / заявил антон / может даже больше / пушкин я чем он»). Далее рассмотрим, как реализуются семантические потенции образов в ходе их использования авторами сетевой юмористической поэзии.
Различные варианты трансформации образов-концептов можно увидеть на примере очень популярного образа — Пушкина (404 текста на сайте poetory.ru, созданных в период 2004–2019 гг.). В самом радикальном варианте концепт русской культуры «Пушкин» может быть полностью обнулен, редуцирован до имени. Первый «пирожок» с его упоминанием был таким: « на пирожке татуировка / здесь маша с ирой побыла / а я вот их совсем не помню / и пушкина почти забыл» . Здесь фамилия Пушкина стоит в одном ряду с рядовыми именами Маши и Иры, таким образом значение образа Пушкина нивелируется до уровня рядового человека. Разумеется, читатель понимает разницу между абстрактной Машей и конкретным Пушкиным, а противоречие объективной семантики и точки зрения автора «пирожка» и вызывает смех.
Намеренная реконструкция концепта, примитивизация образа, который в действительности вызывает множество ассоциаций, лежит в основе и следующего текста: « в дом пушкина вбегает пушкин / ну а куда ему ещё / чтобы немного отдышаться / побриться и сменить бельё» . Возможность существования имени без содержания обыгрывается в «пирожке»: « олег про пушкина подумал / не в смысле жизнь стихи дуэль / а просто так подумал пушкин / не про поэта вообще .» Другой текст, используя игру с именем, предлагает идею «множественности» Пушкина: « красивый пушкин на диване / а пьяный пушкин под столом / домашний пушкин ест ватрушки / а умный на страницах книг» . Однако в большинстве стихотворений мы наблюдаем не полный отказ от использования ассоциативных связей, а избирательное их включение в текст, конструирование нового, смехового концепта на основе обыденных представлений о персонаже. В концепт «Пушкин» входят, например, такие разнородные составляющие, на которые обратили внимание авторы «пирожков»: поэт, Онегин, Дубровский, няня, дуэль, Дантес, бакенбарды и т.д. Простейший способ использовать эти ассоциативно связанные образы — их механическое соположение: « когда мне грустно я онегин / когда я пушкин мне смешно / я буду нежным как дубровский / дай только выспаться хоть раз» . Более связно построен такой «пирожок»: « в день пушкина все в бакенбардах / все с нянями из кружек пьют / купаются на чорной речке / и бьют дантесов по мордам» . Очень тесно в сознании авторов «пирожков» связаны образы Пушкина и Дантеса, вот как они появились вместе впервые: « вчера в буфет я прибегаю / скажите нет ли пирожков / мне отвечают их сожрали / дантес и пушкин вот козлы» .
Неудивительно, что больше всего «пирожков» посвящено смерти Пушкина. На примере этих текстов можно увидеть, как развивается образ-концепт в процессе коллективного переосмысления, когда каждый автор обнаруживает новый вариант прочтения общеизвестного события. Традиционное для «пирожков» ниспровержение героев с их устойчивых позиций, провозглашение амбивалентности любого образа находит отражение в тексте: « теперь одно лишь остается / публичный вызов на дуэль / а когда он тебя застрелит / поймут кто пушкин кто дантес» . Смерть здесь предстает моментом определения сущности Пушкина: как будто он становится самим собой, таким, каким мы его знаем, именно после смерти на дуэли с Дантесом. Возможность перемены ролей Пушкина и Дантеса и последствия этого описаны во многих «пирожках», например: « когда бы пушкин был дантесом / всё было бы наоборот / он выжил б вызвав изумленье / у черно-реченских бобров» ; « когда бы пушкин был Дантесом / он застрелил бы сам себя / и чернореченские бобры / со смеху вымерли б давно ».
Приведенные тексты написаны разными авторами с разницей в один день, именно так и происходит развитие затронутой кем-то одним темы. Сложные отношения Пушкина с государством также актуализируются в контексте его гибели: « ухлопал пушкин бы дантеса / царь посадил его в тюрьму / или в глубины руд сибирских / писал бы пушкин про гулаг» . Прецедент убийства на дуэли устойчиво связан с именем Пушкина. Пушкин превращается в духа, преследующего других персонажей российской культуры: « ползет мересьев по подлеску / вдоль черной речки вдруг кусты / зашевелились вышел пушкин / привет Дантеса не видал». Тема смерти Пушкина переосмысляется в контексте современной культуры, актуализируя статус Пушкина как известной личности: « сегодня пушкин на дуэли / дерется а у нас уже / записан выпуск передачи / с рыдающим малаховым »; « сегодня пушкин на дуэли / дерется нужно две статьи / одна про закатилось солнце / другая что дантес еврей ». Альтернативное содержание привносится в образ Пушкина под влиянием сюжетов массовой культуры: « серебряная думал пушкин /у речки лежа на снегу / какая падла разболтала / ну все теперь уж точно все». Некоторые авторы находят повод перевернуть представления об отношениях Пушкина и Дантеса вплоть до того, что эпизод дуэли обретает двусмысленность: « дантес зеленкой мажет дуло / и пулю мягкую берет / чтоб пушкин мучался недолго / чтоб рана быстро зажила» ; « сходитесь господа сходитесь / и пушкин и дантес сошлись / и позже съехались и даже / мечтали чтоб усыновить» ; « дантес и пушкин без одежды / сплелись руками все в поту / и пушкин падает в подушки / и молвит ты меня убил».
Таким образом, образ-концепт в сетевой юмористической поэзии может использоваться в разных контекстах и с разным семантическим содержанием. Наполненность концепта варьируется от нулевой связи (только имя) до широкого круга ассоциативных связей, не только традиционных, но и новых, подсказанных современной культурой. Комический эффект вызывается противоречием между изначальным, объективно существующим в общественном сознании концептом и тем смеховым концептом, который сконструирован в самом юмористическом стихотворении.
Наши представления о семантике образов-концептов в сетевой юмористической поэзии будут неполными, если мы не затронем их субкультурную природу.
Мы уже говорили, что было бы ошибочным считать концепты «пирожков» прямым отражением массового сознания, скорее, это образы массового сознания, воспринятые через призму иронии. Авторы «пирожков» намеренно играют с устойчивыми представлениями, преобразуя их в концепты, понятные только участникам творческого сообщества. В новом качестве образы-концепты могут быть восприняты только в контексте совместного творчества всех авторов, и это говорит о процессе меметизации образов. Мемом называют «закрепленную, устойчивую фразу (или другой элемент информации, в том числе и визуальной), которая бесконечно копируется и повторяется» [8, с. 286]. Бесконечное использование мема в новых текстах способствует его видоизменению и обнаружению многочисленных новых смыслов, которые накладываются на уже существующие и формируют семантический код, понятный лишь тем, кто знает историю данного мема [4, с. 52]. Например, идея о том, что Пушкин мог выжить вместо Дантеса является производной от более ранней идеи, что Пушкин и Дантес становятся таковыми только в момент дуэли, а вне этого контекста между ними как будто и нет никакой разницы. Подлинное движение смысла, которое происходит внутри каждого прецедентного образа в «пирожках», заметно лишь завсегдатаям поэтического сообщества, и именно на их подготовленное восприятие рассчитывается каждый новый «пирожок», продвигающий знакомый образ дальше по пути семантической деформации.
Есть мнение, что распространение мемов в интернет-среде отражает примитивизацию мышления, отказ от сложных концепций [3]. Между тем существуют гипотезы о том, что всю культуру можно представить как «процесс зарождения, передачи, копирования и отмирания мемов» [8, с. 286]. На наш взгляд, процессы семантической динамики образов-концептов в сетевой юмористической поэзии целесообразно изучать с точки зрения теории мема (которая пока еще находится в процессе становления). Это связано с тем, что в основе семантики данных образов лежит коллективная разработка идей, которые, проходя через множество индивидуальных творческих актов, наращивают свое значение с точки зрения всех участников субкультуры.
Список литературы Семантическая динамика образов-концептов в сетевой юмористической поэзии
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. Москва: Худож. лит., 1990. 543 с.
- Гаджиев А. А. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы // Тез. лекций в Бакинском славянском университете. Баку: Мутарджим, 2012. 76 с.
- Голубева А. Р., Семилет Т. А. Мем как феномен культуры // Культура и текст. 2017. № 3 (30). С. 193–205.
- Гузаерова Р. Р. Интернет-мем как знак современного медиапространства // Филология и культура. 2017. № 2 (48). С. 50–54.
- Гуторенко Л. С. Юмористическая поэзия в русскоязычном виртуальном пространстве: предпосылки возникновения и современное состояние // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 10-3 (76). С. 92–96.
- Исаков А. В. Сетевая юмористическая поэзия сегодня: эволюция «пирожков» и новые жанры // Мировая литература глазами современной молодежи. Цифровая эпоха: сб. материалов IV междунар. молодежн. науч.-практ. конф. Магнитогорск: МГТУ им. Г. И. Носова, 2018. С. 66–71.
- Козинцев А. Г. Смеховая культура: поздние этапы // Вестник Рос. гуманит. науч. фонда. 2008. № 4 (53). С. 57–66.
- Ксенофонтова И. В. Специфика коммуникации в условиях анонимности: меметика, имиджборды, троллинг // Интернет и фольклор: сб. ст. Москва: Гос. республ. центр рус. фольклора, 2009. С. 285–293.
- Лихачева Л. С., Фадеева К. А. Смеховая культура как способ производства, трансляции и потребления смешного // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2015. № 4. С. 135–144.
- Петренко С. Н. Пирожки и порошки: сетевая поэзия между фольклором и литературой // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2014. № 7 (92). С. 129–135.
- Сафонова Т. В. Начинка современных пирожков (о малых художественных формах «пирожки» и «порошки» в сети Интернет) // Коммуникация в современном мире: материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы массовой коммуникации». Ч. 1. Воронеж, 2012. С. 65–67.
- Щербакова М. Е. Стишки-«пирожки»: использование антропонимов как элемента языковой игры // Вестник Твер. гос. ун-та. Сер. Филология. 2018. № 1. С. 103–106.