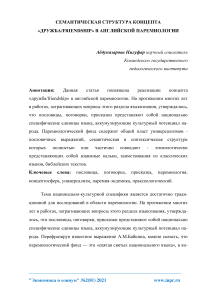Семантическая структура концепта "дружба/friendship" в английской паремиологии
Автор: Абдуназарова Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2-1 (81), 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена реализации концепта «дружба/friendship» в английской паремиологии. На протяжении многих лет в работах, затрагивающих вопросы этого раздела языкознания, утверждалось, что пословицы, поговорки, присказки представляют собой национально специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал народа. Паремиологический фонд содержит общий пласт универсализмов - пословичных выражений, семантическая и синтаксическая структура которых полностью или частично совпадает - этимологически представляющих собой взаимные кальки, заимствования из классических языков, библейских текстов.
Пословица, поговорка, присказка, паремиология, концептосфера, универсализм, паремия-эндемика, праксеологический
Короткий адрес: https://sciup.org/140258644
IDR: 140258644
Текст научной статьи Семантическая структура концепта "дружба/friendship" в английской паремиологии
Тема национально-культурной специфики является достаточно традиционной для исследований в области паремиологии. На протяжении многих лет в работах, затрагивающих вопросы этого раздела языкознания, утверждалось, что пословицы, поговорки, присказки представляют собой национально специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал народа. Перефразируя известное выражение А.М.Бабкина, можно сказать, что паремиологический фонд — это «святая святых национального языка», в ко- торой неповторимым образом проявляется дух и своеобразие нации1.
Национальный язык — это не только средство общения, знаковая система для передачи сообщений. Национальный язык в потенции является как бы «заместителем» русской культуры2. Таким образом, изучая «концептосферу» - термин, введенный впервые Лихачевым — языка, мы, в сущности, изучаем концептосферу культуры, этнического менталитета, интерпретирующего понятия в рамках определенной мировоззренческой концепции, где специфика концепта как раз и определяется числом культурно значимых обыденных представлений — обиходных концепций, разделяемых членами какого-либо языкового социума3.
Материалом для исследования паремиологического представления концепта дружбы послужили словари пословиц и поговорок в английском языке.
В английской лексикографии представлено 64 пословичных выражения в словаре G.L. Apperson, 88 - в R. Fergusson. В словарях пословиц М.И. Дубровина и С.Ф. Кусковской содержится соответственно 12 и 24 паремий.
В ходе исследования выяснилось, что паремиологический фонд обоих языков содержит общий пласт универсализмов - пословичных выражений, семантическая и синтаксическая структура которых полностью или частично совпадает - этимологически представляющих собой взаимные кальки, заимствования из классических языков, библейских текстов и т.д. Примерами таких паремий могут служить следующие пословицы: «Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает» / Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends; «Избави мя, Боже, от друзей, а с врагами я и сам справлюсь» / God defend me from my friends; from my enemies I can de- fend myself; «Собака собаку знает (не ест)» / Dog doesn’t eat dog; «С собакой ляжешь — с блохами встанешь» / If you lie down with dogs, you will get up with fleas; «Лучше честный враг, чем коварный друг» / Better an open enemy than а false friend; «Короткий счет - длинная дружба» / Short reckonings make long friends; «Буде меня любишь, так и собаку мою не бей (люби)» / Love me, love my dog.
Самый многочисленный пласт пословичных выражений в обоих языках составляют паремии, имеющие общую семантическую структуру, но отличающиеся в плане выражения, так называемые семантические синонимы. Причем системность или кластерность - соотношение с другими своими семантическими синонимами, являющимися вариантами в плане выражения -здесь рассматривается как моноязычное явление, так и межъязыковое.
Анализ семантической структуры таких межъязыковых синонимов привел к выявлению ряда общих для обоих языков семантических признаков дружбы:
Из общего количества (200) исследованных русских пословиц и поговорок, относящихся к ядру концептосферы и примерно такого же числа (188) английских пословичных выражений соответственно 13 и 10 представляют собой «обыденное» толкование/понимание друга/дружбы отправляющее к другу-помощнику и соратнику: «Отец - сокровище (наставник), брат - опора, а друг — и то и другое»; «Кто друг прямой, тот брат родной»; «Жить заодно, делиться пополам»; «Живут душа в душу»; «Куска хлеба не съедят друг без друга»; «У них даже лен не делен»; «Два горя вместе , третье пополам»; «Мы с тобой, как рыба с водой» / A friend in need is a friend indeed; A friend is another self; Among friends all things are common; A friend to everybody is a friend to nobody (none); He is my friend that succoureth me; A good friend is my nearest relation; A faithful friend is a medicine of life; One friend watcheth for another.
Очевидно, что русские пословицы в большей степени отражают идею взаимопомощи, взаимопонимания (в английских паремиях помощи и пони- мания), общей доли, единения во всем. Однако, здесь от друга ждут не только, что он будет «опорой», но и «наставником», «советником»; от друга ожидают, что он будет говорить всю правду в лицо, какой бы горькой она не была («Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду скажет»; «Не тот друг, кто в беде не оставит, а тот, кто на ум наставит»; «Не тот друг, кто потакает, а тот, кто на ум наставляет»; «Друг спорит - недруг поддакивает»); тогда как в английских паремиях в отношениях прослеживается больше независимости, личной свободы. Ожидается, что друг будет всегда отзываться о субъекте хорошо (Не is a good friend that speaks well of us behind our backs), хотя в то же время выводится идея фальши в сладких речах (АП are not friends that speak us fair).
Наиболее многочисленны паремии, в семантике которых на первый план выведен ценностный компонент семантики концепта дружбы. Примечательно, что в обоих языках это достигается в большинстве случаев путем сравнения: «Хороший друг лучше плохой родни»; «Хороший друг лучше ста родственников»; Друзья прямые — братья родные»; «Кто друг прямой, тот брат родной»; «Верному другу цены нет»; «Друг дороже денег»; «Не мил и вольный свет, когда милого друга нет»; «Нет друга, так ищи: а нашел, так береги»; «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; «Человек без друзей, что дерево без корней»; «Без друзей, без связи, что телега без мази»; «Дерево держится корнями, а человек друзьями»; «Доброе братство милее богатства»; «Друг - ценный клад, недругу никто не рад» / Better lose a jest than a friend; А friend in court is better than a penny in purse; A friend in the market is better than money in the chest; It is good to have some friends both in heaven and hell; He quits his place well that leaves his friend there; It’s merry when friends meet; When friends meet, hearts warm; One enemy is too many; and a hundred friends too few; One God, no more, but friends good store; Friends tie their purse with a cobweb thread; A true friend is the best possession; They are rich who have true friends; No physician like a true friend.
Следующий семантический признак отправляет нас к монетарно-фелицитарной концепции дружбы с импликацией на фальшивость, более того, опасность таких отношений. Согласно данной концепции друзей бывает много только у богатых, «счастливых» людей, а бедным да «несчастным» приходится нести свою ношу самим, : «Деньги найдут друга»; «Друзей у богатых, что мякины около зерна»; «Кому счастье дружит, тому и люди»; «На обеде все соседи, а пришла беда, они прочь как вода»; «Хлеба нет, друзей не бывало»; «Счастья не стало и друзей мало»; «Друзья - до черного дня» / No friendship is strong that owes its rise to a pot; When good cheer is lacking, friend will be packing; Misfortune makes foes of friends; Friends through fortune become enemies through mishap; Poor folk’s friends soon misken them; Fresh fish and poor friends become soon ill savoured; Poverty parts fellowship; In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity, not one amongst twenty; Rich folk have many friends; A false friend and a shadow attend only while the sun shines; While the pot boils friendship blooms.
Также не сложно вычленить в обоих языках прагматическую концепцию, соотносящую понятия дружбы и дела, где последние могут быть добрыми соседями, пока не затрагиваются их интересы: «На службе нет дружбы»; «Не в службу, а в дружбу»; «Дружба дружбой, а денежкам счет»; «Дружба дружбой, а денежки сами по себе»; «Дружба дружбой, а служба службой»; «Дорога вместе, а табачок пополам»; «Дружба дружбой, а табачок врозь»; «Будь друг, да без убытку»; «Хлеб-соль вместе, а табачок каждый свой курит»; «С соседом дружи, а тын городи»; «Счет дружбы не портит»; «Счет дружбе не помеха»; «Чаще счет — крепче дружба»; «Счет чаще -дружба слаще»; «Короткий счет - длинная дружба»; «Долг платежом красен»; «Ты - мне, я - тебе»; «Услуга за услугу» / Short (even) reckoning makes long friends; One good turn deserves another; Roll my log, and I’ll roll yours; Scratch my back, and I’ll scratch yours; A hedge between keeps friendship green.
Ряд пословиц реализуют причинно-следственные аспекты потери дружбы, вследствие ее хрупкости и уязвимости. Они предостерегают нас от необдуманных поступков, слов, наносящих непоправимый ущерб: «Дружба -как стекло, сломаешь — не починишь (разобьешь - не склеишь)» / A broken friendship may be soldered, but will never be sound; One may mend a tom friendship but it soon falls in tatters; A friend is not so soon gotten as lost; Lend your money and lose your friend; When love puts in, friendship is gone. Этот компонент семантической парадигмы концепта дружбы в большей мере вычленяется в английском языке.
Следующая паремиологическая группа отправляет к семантическому признаку опасности концепта дружбы, который вербализуется в основном через лексемы «friend», «enemy» и «foe» в английском: «Лучше честный враг, чем коварный друг»; Бывший друг - злейший враг»; «Дружба от недружбы близко живет»; «Неверный друг опаснее врага»; «Не бойся врага умного, бойся друга глупого» / Hatred with friends is succour to foes; Better an open enemy than a false friend; False friends are worse than open enemies; It is better to be stung by a nettle than pricked by a rose; A reconciled friend is a double enemy; Save a man from his friends, and leave him to struggle with his enemies; The friend that faints is a foe; Who hath too many friends, eats too much salt.
Целый ряд пословиц посвящен концептуально значимым представлениям о настоящей, проверенной, «старой» дружбе, противопоставляя ее короткой: «Новых друзей наживай, а старых не забывай»; «Старый друг лучше новых двух»; «Для нового друга не чурайся старым»; «Одежда лучше новая, а друг — старый»; «Вещь хороша новая, а друг — старый»; «Старая хлеб-соль не забывается» / The best mirror is an old friend; Friendship, the older it grows, the stronger it is; Old fish, old oil, and an old friend are the best; Old friends and old wine and old gold are the best; Old acquaintances will soon be remembered. И, конечно, отправляют к верификационны аспектам дружбы, проверить которую можно только временем.
И, наконец, третий, не менее многочисленный, пласт включает в себя так называемые паремии-эндемики - этноспецифические образования, не имеющие семантических эквивалентов в языке сравнения.
Национальной маркированностью обладают также пословицы, которые в своей семантике отправляют к понятию «друга в кавычках». Негативная коннотация, определяющая экспрессивно-оценочный оттенок таких единиц, достигается с помощью иронии. Такие выражения являются замечательной демонстрацией наличия национально-специфичного чувства юмора: «Его милее нет, когда он уйдет»; «Мы с тобой, что рыба с водой: я на лед, а ты под лед»; «Такие друзья, что схватятся, так и колом не разворотишь»; «И ты мне друг, и я тебе друг, да не оба вдруг»; «Так друга любит, что для него последний кусок хлеба сам съест».
В составе семантической структуры английских паремий можно вычленить следующие уникальные компоненты, позволяющие определить национально-специфическую семантику концепта дружбы в английском языке:
В основном они касаются праксеологических аспектов дружбы, направленных на ее нахождение и сохранение: Friendship increases in visiting friends, but in visiting them seldom; Little intermeddling makes good friends; Friends are like fiddle-strings, they mustn't be screwed too tight.
Единично представлен семантический признак рефлексии (No man has a worse friend than he brings with him from home).
Хотя при сопоставлении обнаружилось много общего в паремиологическом фонде исследуемой концептосферы обоих языков, все-таки сохраняется достаточно много расхождений, особенно в лексическом составе. Это объясняется тем, что русские и английские пословицы складывались в различных исторических условиях, отражая общественноэкономический уклад и условия развития, не совпадающие у двух народов. Расхождения касаются и используемых образов, и самих сентенций.
Сопоставление семантики русских и английских паремиологических единиц показало, что наряду с общими признаками, присущими обоим язы- кам, содержатся и уникальные, отправляющие к национальной специфике концепта дружбы. Они касаются в основном присущего английским пословицам семантического компонента «личной свободы», прослеживающегося в общих универсальных концепциях, а также праксеологических аспектов дружбы, относящихся к ее завоеванию и поддержанию.
Список использованных литератур
-
1. Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во
фразеологии //Вопросы языкознания. 1997. №6. С.37-49.
-
2. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка// Серия
литературы и языка, т. 52, №1, 1993. С. 3-9.
-
3. Воркачев С.Г. Методологические обоснования
лингвоконцептологии. // Теоретическая и прикладная лингвистика. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. - Воронеж, 2002. С. 79-95.
"Экономика и социум" №2(81) 2021
Список литературы Семантическая структура концепта "дружба/friendship" в английской паремиологии
- Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии //Вопросы языкознания. 1997. №6. С.37-49.
- Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка// Серия литературы и языка, т. 52, №1, 1993. С. 3-9.
- Воркачев С.Г. Методологические обоснования лингвоконцептологии. // Теоретическая и прикладная лингвистика. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. - Воронеж, 2002. С. 79-95.