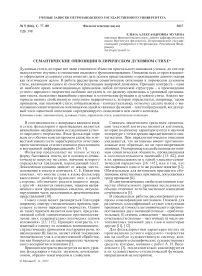Семантические оппозиции в лирическом духовном стихе
Автор: Мухина Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (166), 2017 года.
Бесплатный доступ
Духовные стихи, которые все чаще становятся объектом пристального внимания ученых, до сих пор недостаточно изучены в отношении языкового функционирования. Описание всех сторон языкового оформления духовного стиха позволит дать полное представление о произведении данного жанра как поэтическом целом. В работе рассмотрены семантические оппозиции в лирическом духовном стихе, являющиеся одним из способов реализации жанровой динамики. Принцип контраста - один из наиболее ярких композиционных принципов любой поэтической структуры - в произведении устного народного творчества особенно актуален и, по-разному проявляясь в уровневой организации текста, выполняет важнейшие строевые и эстетические функции в духовном стихе. Анализ материала выявил свойственную оппозитам иерархичность, которая определяется, например, таким признаком, как языковой статус (общеязыковые / контекстуальные), позволил сделать вывод о выполнении семантическими оппозициями одной из важных функций - текстообразующей, когда первый член оценочной оппозиции «программирует» появление в нем своего антипода.
Лингвопоэтика, духовные стихи, лирические стихи, семантические оппозиции
Короткий адрес: https://sciup.org/14751222
IDR: 14751222 | УДК: 398
Текст научной статьи Семантические оппозиции в лирическом духовном стихе
В соотнесенности с жанровым каноном язык и стиль фольклорного произведения являются важнейшим направлением исследования устного народного творчества. Язык фольклора «при всем его обычно констатируемом единстве и известной замкнутости характеризуется отчетливо представленным стилистическим расслоением и внутренней дифференциацией» [14: 11].
Фольклор предполагает не только устную форму бытования текста, но и основную семантическую нагрузку на слово, значение которого определяется традицией, порождающей текст. Лексическая единица зависит от жанра, местоположения в тексте и контекста. С. Е. Никитина замечает, что многие слова в языке фольклора выполняют двойную функцию: они, с одной стороны, обозначают реалии вещного мира, с другой – являются символами, знаками напряженного поля традиционных смыслов, актуализирующими часть неосознанных архетипических представлений [10].
Смысл слова может расширяться благодаря широкому спектру стилистических приемов, присущему устному народному творчеству. Одним из таких приемов является контраст, представляющий собой «динамическое противопоставление двух содержательно-логических планов изложения» [13: 115]. Принцип контраста, относимый к одному из основных композиционностилистических принципов построения речи, по наблюдению Ш. Балли, являет собой тенденцию человеческого ума в стилистической обработке, так как базируется на закономерностях человеческого восприятия и познания [1].
Принцип контраста реализуется на всех уровнях фольклорного текста: звуковом, композиционном, образно-тематическом и словесном.
Главным лексическим средством организации текстовой антитезы являются антонимы, которые по-разному характеризуются в научной литературе с точки зрения парадигматики и синтагматики. При парадигматическом описании указывается, что антонимы имеют противоположные или обратные, но не противоречащие значения. Подчеркивается свойственная антонимам семантическая общность, проявляющаяся в «соотносительности значений» [15: 62], или в их принадлежности к одной «лексико-семантической парадигме» [16: 145], или в том, что они выражают одно и то же родовое понятие [12]. Обязательным для антонимов признается обозначение качественных признаков, допускающих градуирование [6].
Из синтагматических свойств антонимов в качестве обязательного признака исследователи обычно отмечают хотя бы частичное совпадение сочетаемости [5].
В специальных работах рассматриваются вопросы классификации антонимов. Основой для различных классификаций служат следующие признаки: а) точность антонимического противопоставления двух значений (точные – приблизительные); б) степень совпадения – несовпадения сочетаемости (полные – частичные); в) число антонимичных значений двух слов и некоторые другие [11], [12].
Для фольклористики характерен взгляд на произведения устного народного творчества как на особую художественную систему, комплекс жанров и специфических художественных средств, которые, начиная с работ А. Н. Веселовского [3], последовательно анализируются в их художественно-стилистической функции, направленной на восприятие.
Семантические оппозиции стали предметом пристального внимания исследователей при описании архаических традиций, различных речевых ситуаций, в том числе фольклорных, диалектных текстов.
Антитеза становилась предметом изучения в разных жанрах фольклора: сказках, балладах, пословицах, хороводных песнях, солдатских и рекрутских песнях, былинах. Семантические оппозиции были рассмотрены и в некоторых эпических духовных стихах [7], [9].
Исследователи замечают, что антитеза, служащая созданию художественного единства произведения, выражается не только смысловым противопоставлением понятий, но и использованием лексических, грамматических и синтаксических приемов. Будучи важным стилистическим средством, она выполняет сюжетообразующую и композиционную функции: «…противопостав-ление персонажей, являющееся сюжетообразующим средством, выливается в композиционную антитезу, соответственно и стилевые формулы (оценка поступков, диалоги и т. д.), часто построенные на контрастах» [2: 70]. Антитеза, носящая частный или общий характер, выполняет в произведении характеризующую функцию.
Языковеды убедительно доказали, что фольклорная картина мира – модель, трансформированная через систему оценочных кодов. Она принципиально строится на оппозициях разного рода, которые заложены и в «физической» модели построения макрокосма, и в «психическом» освоении этой действительности. Оппозиции реализуются как в условиях микроконтекста, в пределах стиха или параллельных стихов, так и в пределах целого произведения.
Лексические оппозиты (антонимы) в своем подавляющем большинстве характеризуются параллельным расположением, благодаря которому антитеза становится лингвистическим, а не логическим средством: без параллелизма нет стилистического приема, а есть лишь средство логическое.
Объектом оценки духовного стиха является человеческая душа. По мнению С. Е. Никитиной, определяющим противопоставлением в данном жанре является не свое / чужое , что свойственно для фольклора вообще, а грех / праведность , по-разному реализующимся в семантических оппозициях конкретных текстов и их вариантов [10]. Исследователь приходит к выводу о том, что семантические оппозиции – это обобщение и категоризация единиц фольклорного текста, они имеют различное функционально-стилистическое происхождение, выполняют оценочную, воспитательную, просветительскую, текстообразующую функции.
Духовные стихи представляют собой весьма пестрый жанр, включающий лирические, лироэпические и эпические произведения. Нами рассмотрены только лирические духовные стихи, опубликованные в сборнике «Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI–XIX вв.»1
-
[4] . Каждое произведение, содержащее антитезу, было рассмотрено отдельно, что обуславливается необходимостью установления связи оппозитов с сюжетом.
Стихотворение «Плач Иосифа Прекрасного» представляет собой мольбу главного героя о возвращении на Родину. В произведении отражено пространственное противопоставление рай / ад , обозначенное имплицитно: слезы, реки эдемские / геенский огнь . Слезы, реки символизируют рай, о чем свидетельствует, например, стих о «Двух братьях Лазарях», в вариантах которого атрибутом рая выступает такой символ воды, как море [8], и подчеркивает относительное прилагательное эдемский . Слезы являются ключом к очищению от греха и определяют способность героя общаться с Богом: « исчезнуша мои слезы о моем с тобою разлучении; умолкнуша гортань моя» [4: 154], которую он утрачивает, оказываясь на чужой земле. И здесь появляется еще одна пространственная оппозиция Израиль (родина Иосифа) / ина земля (чужбина).
«Стих о лени» основан на временной оппозиции рано / поздно , которая тесно связана с противопоставлением Царствие небесное / мука превечная . Произведение в назидательной форме рассказывается о том, что получит человек, который рано встает и поздно ложится: трудолюбивый не только обретет материальные ценности (возможность есть, пить сладкое, красиво одеваться, занимать высокий пост и т. д.), но и изменится духовно (очистится от греха, получит признание людей и др.). И как следствие, трудолюбивый человек после смерти обретет рай, а ленивый – ад, потому что «об ленивых рабах сам Господь Бог не печется » [4: 199]. Интересно, что здесь материальные блага не выступают чем-то постыдным, препятствующим попаданию в царствие небесное, а стоят в одном ряду с ценностями истинного христианина.
В произведении «Святитель Никола и нищая братия» отражена локусная оппозиция небесные высоты, рай светлый / земля грешная ; чертоги в раю светлоем / сырая земля . Защитник обездоленных Святой Николай должен сойти с неба на землю или послать раба-христианина , который взамен помощи нищей братии получает как место в раю, так и материальное благополучие «в живленьи на сырой земле» [4: 117].
Стих «Иоасаф-царевич и пустыня», представленный двумя вариантами, построен в виде диалога между главным героем и пустыней. Центральная оппозиция духовного стиха грех / праведность ярко выражена в описании жизни героя в миру и в пустыне, где его жизнь посвящена служению Богу: юность прелестная, вольное царство, белая каменная палата, казна золотая, царские яства и пойла противопоставлены творению воли божьей, земным поклонам до смертного часу, воскушанию гнилой колоды, испиванию болотной водицы. Первая часть оппозиции содержит перечисление того, что приравнивается к греху и ведет к огню, муке превечной, которая противопоставлена царствию небесному, доступному после очищения души жизнью в аскезе (вторая часть оппозиции).
В духовном стихе пустыня выступает связующим звеном между небом и землей. Сакральный локус, имея райские атрибуты и являясь местом спасения, противопоставлен остальной земле. Выполняя связующую функцию, пустыня в народном православии становится не просто местом уединения, совершения христианского подвига, но и одушевленной субстанцией, которой отводится важная роль – принимать или не принимать человека, жаждущего покаяния.
Небольшой по объему стих «Никола-Святитель» содержит локусную оппозицию славный Барг-град, неверная страна в немцах, земля турская / святая Русь , где вымышленная территория символизирует место хранения мощей Святого Николая, а Русь – место совершения чудес.
«Стих о смерти» представлен в сборнике в четырех вариантах. Темпоральная оппозиция вечер / утро отражена только в первых двух вариантах. Вечер представляет собой грешную жизнь на земле и символизирует конец дня, цикла, жизни: « Со вечера человек веселился, радовался…» [4: 236], а утро – жизнь души после смерти: «… По утру человек во гробу лежит…» [4: 236].
В произведении «Плач души» противопоставление грех / праведность выражено двумя блоками. Первый содержит перечисление материальных благ и человеческих качеств, которые не помогут избежать Страшного суда: « Не поможет душам нашим Ни злато, ни серебро, Ни именье, ни богачество, Ни цветное наше платие, Ни прелесть нам лицемерная, Ни скупость нам лукавая, Ни гордость безумная » [4: 227]. При описании грехов используется прием градации – повышается степень греховности составляющих. Второй блок содержит перечисление действий, составляющих христианский подвиг и помогающих избежать Страшного суда: « Толико помогут душам нашим Все дела, дела наши добрые. Смирение, большое наше терпение, Слезы с плачем, с покаянием, Есть поклоны наши полуночные, Тихомирна тайна милостыня» [4: 227] . Составляющие второго блока аксиологически равноценны.
Лирические духовные стихи, в отличие от эпических, в меньшей степени характеризуются наличием оппозиций, что обусловлено описанием душевных переживаний героя, не его жизни, и, вследствие этого, отсутствием героя-антагониста, с которым борется и которому противо- поставляется персонаж, утверждающий христианскую веру.
Главная оппозиция грех / праведность находит свое отражение в противопоставлении по вертикальной оси. Здесь соотносятся сакральные локусы рай / ад: слезы, реки эдемские / геенский огнь ; Царствие небесное / мука превечная ; сакральные и мирские небо / земля: небесные высоты, рай светлый / земля грешная ; чертоги в раю светлоем / сырая земля . Противопоставление может быть организовано и по горизонтальной оси, где в антонимичные отношения вступают своя и чужая земля: Израиль (родина Иосифа) / ина земля (чужбина); славный Барг-град, неверная страна в немцах, земля турская / святая Русь .
В меньшей степени в произведениях отражена временная оппозиция, выраженная антонимами: рано / поздно ; утро / вечер .
Центральное противопоставление жанра грех / праведность в лирических духовных стихах находит свое отражение при описании праведной и неправедной жизни и представлена целыми блоками: злато, серебро, именье, богатство, цветное платье, прелесть лицемерная, скупость лукавая, гордость безумная / дела добрые, смирение, большое терпение, слезы с плачем и покаянием, поклоны полуночные, тайная милостыня и др. Такое пространное описание праведного и неправедного поведения, вероятно, имеет назидательный характер: выбор человеком образа жизни на земле предопределяет местоположение его души после смерти.
Анализ показал, что, как правило, в оппозиции входят контекстуальные антонимы, употребление которых обусловлено спецификой жанра.
В рамках оппозиций актуализируется не только собственно лексическая семантика, но и коннотативная семантика фольклорного слова, что достигается, в частности, параллельным расположением оппозитов, которые в духовном стихе имеют различное функционально-стилистическое происхождение: это высокий книжно-славянский слой лексики ( чертоги в раю, Царствие небесное ) и народно-разговорный, иногда сниженный ( царские пойла, гнилая колода ).
Семантические оппозиты выполняют не только оценочную, воспитательную и просветительскую функции, но и текстообразующую. Один из членов оценочной оппозиции, будучи очень существенным элементом в этической картине мира, воссоздаваемой певцом, и употребляясь в тексте первым, как бы программирует появление в нем своего антипода.
-
* Исследование выполнено в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2017–2021 гг.
SEMANTIC OPPOSITION IN THE LYRICAL SPIRITUAL VERSE
Список литературы Семантические оппозиции в лирическом духовном стихе
- Балли Ш. Французская стилистика/Пер. с фр. К. А. Долинина; Под ред. Е. Г. Эткинда. М.: Иностранная литература, 1961. 394 с.
- Ведерникова Н. М. Антитеза в волшебных сказках//Фольклор как искусство слова. Вып. 3. М., 1975. С. 66-78.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л.: Художественная литература, 1940. 406 с.
- Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI-XIX вв./Сост., вступ. статья, примеч. Л. Ф. Солощенко, Ю. С. Прокошина. М.: Московский рабочий, 1991. 351 с.
- Лесник М. Д. Об антонимичности прилагательных большой, малый, маленький и сфере их употребления в современном русском языке//Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1952. № 161. Вып. 18. С. 119-126.
- Максимов Л. Ю. Антонимия как один из показателей качественности прилагательных//Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1952. № 161. Вып. 18. С. 102-118.
- Мухина Е. А. Языковая экспликация концептуальных оппозиций как способ реализации жанровой динамики духовного стиха «Алексей человек Божий»//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2013. № 5 (134). С. 55-60.
- Мухина Е. А. Концепт море в русской народно-речевой культуре (на примере духовного стиха)//Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: Сб. научн. тр. Вып. 6/Сост., отв. ред. Т. В. Семашко. М.; Архангельск: Соломбальская типография, 2013. С. 35-39.
- Мухина Е. А. Семантические оппозиции в эпическом духовном стихе «Два Лазаря»//Язык как основа этнокультурной идентичности: Материалы научно-практического семинара. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 40-47.
- Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 385 с.
- Новиков Л. А. Русская антонимия и ее лексикографическое описание//Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка/Под ред. Л. А. Новикова. М.: Арсис Лингва: Вентана-Граф, 1996. С. 5-30.
- Новиков Л. А. Логическая противоположность и лексическая антонимия//Русский язык в национальной школе. 1966. № 4. С. 76-87.
- Русский язык: Энциклопедия/Гл. ред. Ф. П. Филин. М.: Советская энциклопедия, 1979. 432 с.
- Тарланов З. К. Язык и поэтика фольклора: проблемы, итоги, перспективы//Язык и поэтика фольклора/Отв. ред. З. К. Тарланов. Петрозаводск: ПГУ, 2001. С. 3-12.
- Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. М.: URSS, 2009. 312 с.
- Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. М.: Просвещение, 1964. 244 с.