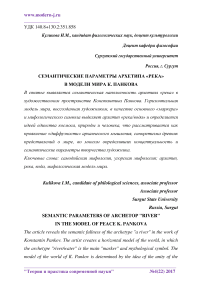Семантические параметры архетипа "река" в модели мира К. Панкова
Автор: Куликова И.М.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляется семантическая наполненность архетипа «река» в художественном пространстве Константина Панкова. Горизонтальная модель мира, воссозданная художником, в качестве основного «маркера» и мифологического символа выделяет архетип «река/вода» и определяется идеей единства космоса, природы и человека, что рассматривается как проявление «диффузности» архаического мышления, синкретизма древних представлений о мире, во многом определивших концептуальность и семантические параметры творчества художника.
Самодийская мифология, угорская мифология, архетип, река, вода, мифологическая модель мира
Короткий адрес: https://sciup.org/140271307
IDR: 140271307
Текст научной статьи Семантические параметры архетипа "река" в модели мира К. Панкова
Первые образные представления об устройстве мира сложились в традиционных культурах в дописьменную эпоху на основе мифологического типа мышления и сохранились до сегодняшнего дня в ряде культур народов Севера и Сибири. Мифологическое мышление и мировоззрение этих этносов обусловлено тесной связью их реального существования с природным ландшафтом и отражают представления о человеке и окружающем его мире, включая Космос. Основываясь на первообразах коллективного бессознательного, это мировоззрение и сегодня во многом определяет особенности культуры коренных этносов и формирует творчество художников, представляющих эти народы. Опора на архетипические установки проявилась в работах художника-примитивиста Константина Панкова, где нашли отражение интегрированные в единое культурное пространство системы парадигм двух народов, к которым художник принадлежит по генетическим корням и по культурным основаниям, – зауральских ненцев и манси. К. Богемская, исследовавшая особенности «примитива» в живописи, отмечала, что творчество этих художников является для них сферой самоутверждения и возможностью создать «свой космос» [1, с. 21]. Такое «космологизированное» пространство, отражающее коллективные знания о мире, зафиксированные в верованиях, фольклоре, мифах, и одновременно передающее понимание мира, созданное воображением художника, предстает в произведениях К. Панкова в виде созданной им модели мироздания.
В картине мира, представленной художником, одним из важнейших моделирующих средств и реального, и мифологического пространства выступает архетип реки. Именно он, с нашей точки зрения, в большей степени отражает миропонимание автора, систему его воззрений на мир и человека в нем. При этом мифологическая парадигма у К. Панкова «растворена» в природном, метафизическом мире. Изображение четко ограниченного отрезка пространства, в котором центральное положение занимает река (озеро, залив), сопрягается с представлениями сибирских народов о горизонтальной модели мира, отражающей пространственновременное двуединство. Земное существование, символизирующееся горизонтальной линией, характерно для наиболее древних представлений [5, с. 267], и «маркером» пространства здесь выступает река. По мнению исследователей, река является «важным мифологическим символом, элементом сакральной топографии»: «В ряде мифологий…в качестве некоего «стержня» вселенной, мирового пути, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, выступает так называемая космическая (или мировая) река. Она обычно является и родовой…» [6, с. 861]. Сходные представления о горизонтальном устройстве бытия отражены в угорско-самодийской мифологии. Мифы о горизонтальном устройстве представляли вселенную в виде мировой реки, в верховьях которой (у истоков) находился Верхний мир. Среднее течение представлялось как область проживания людей, а низовья реки воспринимались как место пребывания умерших (Нижний мир) [6, с. 886].
Внимание К. Панкова сосредоточено на воссоздании «серединного мира» – реального земного существования охотников и рыболовов, проживающих по берегам многочисленных рек, речушек, рукавов, ериков. Река для них – это и есть жизнь во всей ее полноте и изменчивости, это движущееся пространство, имеющее свое окончание. Но ни начало жизни (верховья реки, священные места), ни ее конец (низовья, кладбища) К. Панков не рисовал. На его акварелях и холстах река появляется из-за горизонта чаще в виде двух «рукавов», которые, огибая небольшие участки земли, сливаются в центре в водное пространство, и затем поток уходит в сторону, продолжая путь. Либо на рисунках изображается один водный поток, текущий сверху, который, делая поворот, течет дальше. Нет у художника и изображения «всемирного потопа» - библейского или рукотворного, символика которого связывается с мотивом гибели, в отличие, например, от картины В. Узы «Охота на кабана» (стилистически близкой картинам К. Панкова), которую предположительно можно трактовать как интерпретацию мифа о потопе [7]. Возможный «намек» на потусторонний мир - это небольшой поворот реки и то, что река появляется сверху и уходит вниз. Исходя из тезиса об общих корнях древних мифов разных народов, можно предположить, что это связано с мифопоэтической универсалией о водном пути как дороги в иной мир. Показателем «присутствия» этих миров может служить образ ныряющей птицы, связанной с верхней и нижней сферой [4]. Но, повторим, К. Панков, отражая распространенную символику понятия «река жизни», стремится передать полноту и радость бытия, ощущение жизни как волшебства, чувство своей причастности к этому вечному миру. Красоту существующего мира художник передает, используя яркие цвета (зеленые, синие, красные) и светлые тона (теплые желтые, салатовые, розовые). В картинах «Волны», «Синее озеро», «Пейзаж», «Весна» и др. предстает полумифологический-полуреальный образ природного мира и человека в нем как части этого общего бытия.
В модели мира К. Панкова присутствуют характерные для мифопоэтических представлений «семантические оппозиции» (К. Леви-Строс) или бинарные (двоичные) противопоставления (В. Топоров). Такие мировоззренческие оппозиции служат средством выявления структуры модели мира. В работах К. Панкова прослеживается мифопоэтическое представление о «мировой реке» как рубежа, границы. Но у него река не выступает в качестве оппозиции, разделяющей живое и мертвое. Функция реки здесь – разделение пространства живущих на две части: мир людей и мир природы. Это прослеживается в большинстве его акварелей и работ, написанных маслом («Рыболовецкий поселок»; «Волны», «Синее озеро», «Голубое озеро», «Рыбная ловля», «Охота» и др.). В композиционном отношении работы строятся примерно одинаково: центральное место на них отведено изображению реки (чаще летней, синей или зимней, замерзшей, часто разделяющейся на два рукава), один берег реки – мир людей, другой берег – мир природы. Мир людей представлен их занятиями, домиками, чумами, нартами, упряжками. Мир природы – это олени, птицы, деревья. Сюда (спасаясь от охотника) может плыть олень («Охота», 1940). Но там может сушиться и рыболовная сеть («Рыболовецкий поселок», 1936, и др.). Связывают эти два мира люди, перебираясь на другой берег на лодках, упряжках, нартах, санях («Оленья упряжка», «Охота на белку», «Охотники», «Ловля птиц» и др.). Так у К. Панкова показано взаимодействие двух миров, входящих в понятие единого космоса, подчеркнута космологизированность существующего пространства-времени. При этом у К. Панкова животные в пропорциональном плане по размерам больше человека, что подчеркивает особенность архаического миропонимания: человек – часть природы, менее всесильная, чем она. Отмечая связь произведений К. Панкова с древними мифологическими представлениями, Г. Гор писал, что его картины напоминают «наскальную живопись с ее первозданной свежестью и красотой метко схваченного и запечатленного бытия... Его произведения подчинены художественной логике, близкой к сказке, сочетающей черты реальности и фантазии...» [2, c. 22].
Архетип «река» напрямую сопряжен у К. Панкова с понятием «вода». Древнее сознание представляло воду в качестве первоэлемента Вселенной и считало ее священной [5, с. 76]. Являясь одной из фундаментальных стихий мироздания, вода в мифологических системах обычно выступает эквивалентом первобытного хаоса [6, с. 198]. М. Евзлин подчеркивает: вода означает первобытный хаос, бездну, на которую нисходит Дух, оживляя ее темные и бездонные просторы [3, с. 96]. У ненцев широко распространен сюжет, согласно которому вначале все было покрыто безбрежным водным пространством [6, с. 886]. В космологии самодийцев и угров присутствует не только мотив воды как первоосновы жизни, но и распространенный сюжет «подъятия земли» (С. Аверинцев) со дна океана. На воде растёт всё, в том числе и земля, поднятая из глубин мирового океана птицей гагарой (в других вариантах земля появляется благодаря небесной крылатой птице, а в отдельных ненецких источниках ил со дна океана достаёт выдра). Л. Лар выделяет три версии сотворения мира у ненцев. На первое место он ставит миф о творении всего сущего парой высших божеств – Нумом и Нга (хозяева неба и земли), на второе – мифы о творении мира одним богом (видит в этом влияние христианства), на третье – мифы об участии в сотворении земли птицей [4]. Из этих трех версий в творчестве К. Панкова находит отражение именно этот, близкий к финно-угорскому, вариант о птице, достающей со дна океана первый клочок земли, который потом будет разрастаться. Согласно исследованиям, миф о ныряющей птице принадлежал древней уральской общности – населению Северного Приуралья и Зауралья и Западной Сибири ещё в VI–IVвв. до н.э. [9, с. 35]. Небольшие островки земли между рукавами и протоками на картинах художника вызывают реминисценции с этим древним мифом («Волны», «Рыбная ловля», «Синее озеро» и др.). Дополняют такие ассоциации обязательные у К. Панкова образы плавающих уток. Усиливает восприятие воды как бессмертного и вечного начала «мотив отражения» (нечасто встречающийся у К. Панкова). Так, в работах «Весна» (предположительно цветы или лепестки от цветущих весенних деревьев на воде) и «Рыболовецкий поселок» (зеленые полоски на воде).
Однотипность структуры и повторяемость сюжетов картин К. Панкова свидетельствует о закрепленности, устойчивости определенных мифологем, представляющих архаическое мировоззрение. Подобных примеров у художника много. Так, тематически и композиционно близки между собой картины «Домики рыбачьего поселка» и «Рыболовецкий поселок», «Рыбная ловля» и «Волны». Здесь один и тот же сюжет, с теми же персонажами воспроизведен в разных красках и тонах, с изменением отдельных деталей. Работа «Голубое озеро» и варианты акварельных рисунков «Синее озеро» фактически являются одной картиной. Постоянная фиксация определенной территории и реки/воды как ее центра связана с еще одной универсалией мировой культуры, восходящей к архетипическим основам миропонимания разных народов, – концептом «центр мира». Исследование пространства картин К. Панкова выявляет, что центром мира у него является река. Именно она выступает как в качестве основного, конститутивного признака регионального (этнического) хронотопа, связывающего время и пространство в единое целое, так и топохрона (А. Герд), локализующего определенное пространство во времени, выделяющего особенности специфического историко-культурного ареала, обладающего четкой структурой и собственной системой ценностей. Река является средоточием жизни всех героев, развитие действия всегда связано с ней. «Закрепленность» представлений о реке как пространственном центре мира нередко подчеркивается образом дерева. Например, в картине «Рыболовецкий поселок» на разных берегах реки друг против друга стоят два мощных дерева, фиксируя устойчивость миров (природного и людского) и отделяя мир организованный (космос) от хаоса. Эти деревья можно интерпретировать как отражение архетипа Мирового дерева, которое всегда находится в центре мира [6, с. 330]. Река у К. Панкова фактически выполняет и функции «дома» – места существования, «защищающего пространства, обеспечивающего выход вовне и контакты с внешним миром» [5, с. 265]. Художник никогда не изображал домашний очаг, «мир чума», который рассматривается в качестве материализованной модели устройства мироздания. Исследователи северных культур считают, что устройство ненецкого жилища является важнейшим средством описания Вселенной: чум воплощал в себе как динамические, так и статические аспекты космоса [8]. Для К. Панкова его дом – это река, связывающая все части космоса в целое. Подчеркивает функции реки–дома та самая «ограниченность» пространства картин художника, которая и очерчивает реальные границы «его дома», немыслимого без реки.
Резюмируя проведенные наблюдения, отметим, что моделируемая К. Панковым горизонтальная ориентированность художественного пространства в основном связана с архетипом реки, который включается автором в рамки конкретных природных параметров, органично входит в метафизическое описание определенной территории. Основные семантические параметры архетипа «река» на полотнах К. Панкова – это река-жизнь, река как воплощение полноты бытия, его красоты, изменчивости и вечности; река как граница, разделяющая и одновременно соединяющая мир природы и человека; река как «дом», место существования; река как пространственный «центр мира». Модель мира К. Панкова определяется идеей единства космоса, природы и человека.
Список литературы Семантические параметры архетипа "река" в модели мира К. Панкова
- Богемская К. Г. Понять примитив. Самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в ХХ веке. - СПб: Алетейя, 2001. - 185 с.
- Гор Г. С. Ненецкий художник К. Панков. - Л.: Советский художник, 1968. - 71 с.
- Евзлин М. Космогония и ритуал. - М.: Радикс, 1993. - 337 с.
- Лар Л. Устройство мира космоса и божеств в мировоззрении ненцев в XVIII - начале XX века [Электронный ресурс]. - URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-mira-kosmosa-i-bozhestv-v-mirovozzrenii-nentsev-v-xviii-nachale-xx-veka (дата обращения: 21.03.2017).
- Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 416 с.
- Мифы народов мира: Энциклопедия. Электронное издание / гл. ред. С. А. Токарев. М., 2008. 1147 c. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.indostan.ru/biblioteka/knigi/2730/3412_1_o.pdf (дата обращения: 21.03.2017).
- Мусянкова Н. А. Любители и профессионалы: художественная студия Института народов Севера (1926-1941) [Электронный ресурс]. - URL: http://sias.ru/en/publications/magazines/kultura/2012-4/prikladnaya-kulturologiya/ 779.html (дата обращения: 21.03.2017).
- Теребихин Н. Сакральное пространство ненецких тундр. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.gumilev-center.ru/sakralnoe-prostranstvo-neneckikh-tundr/ (дата обращения: 24.03.2017).
- Чернецов В. Вогульские сказки: сборник фольклора народа манси (вогулов). - Л.: Художественная литература, 1935. - 143 с.