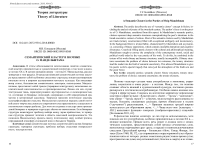Семантический кластер в поэтике О. Мандельштама
Автор: Кондаков Игорь Вадимович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается использование понятия «семантический кластер» применительно к художественной литературе, в том числе в анализе поэзии ХХ в. В центре внимания автора - поэтика О. Мандельштама, рассматриваемая в этом ракурсе. В мандельштамовской семантической поэтике кластеры представляют собой глубинные смысловые структуры, концептуализирующие интенции поэта в широком ассоциативном контексте культуры. Как показывает автор статьи, большинство семантических кластеров, используемых Мандельштамом, представляет собой триады (тернарные конструкции), наполненные исключительной многозначностью и противоречивостью. Фоном для них служит текстуальная ткань, характеризующаяся двусторонностью и оксюморонностью, т.е. состоящая из бинарных оппозиций, содержащих в себе неразрешимый драматизм и когнитивный диссонанс. Творчески наполняя поэтические кластеры культурфилософским смыслом, Мандельштам стремился передать самой поэтикой своего творчества сложность современного ему нравственного, социального и политического мироустройства. Для этого он соединил в текстуре своих произведений бинарные и тернарные структуры, обычно не совместимые. Если бинарные структуры акцентируют проблему выбора между двумя крайностями, то тернарные структуры приводят читателя в область смысловой неопределенности. Это позволило Мандельштаму придать своему поэтическому миру особый трагизм, передававший атмосферу сталинской эпохи и Большого Террора.
Семантическая поэтика, семантический кластер, бинарные структуры, тернарные структуры, проблема выбора, смысловая неопределенность, текстура поэзии
Короткий адрес: https://sciup.org/149127102
IDR: 149127102 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00060
Текст научной статьи Семантический кластер в поэтике О. Мандельштама
Понятие «кластер» сегодня чаще употребляется в экономике, управлении, социологии и очень редко - в поэтике. Между тем, это понятие означает область явлений в художественной культуре, постоянно расширяющуюся и эстетически востребованную. Особенно важно явление кластеров в сфере музыки. Сошлюсь на достаточно корректное определение кластера в сфере музыки: «Кластер (англ, cluster - “гроздь”, “скопление”; tone cluster - “гроздь звуков”) - созвучие, звуки которого расположены по малым, большим, смешанным секундам, причем обязательно в тесном (“скученном”) расположении. <...> Принцип звуковых гроздей широко используется для образования шума. <...> Чаще всего они [кластеры. - И.КД выполняют функцию сонорных (темброво-красочных) созвучий» [Злотникова 2011,61].
В филологии понятие «кластер» до сих пор не использовалось, хотя поводов для его употребления, особенно применительно к поэзии XX в., -великое множество. Прежде всего, речь может и должна идти о семантических кластерах, представляющих собой гроздья сочлененных слов, наполненные перечащими друг другу, а нередко и взаимоисключающими смыслами. Простейший пример - блоковское «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» [Блок 1960, III, 37], где сопряженные в нерасторжимый узел образы-понятия взяты из четырех разных смысловых рядов (темное время суток; пространство вне дома; искусственный свет; болезнь и смерть) и их стяже- ние в единый кластер создает семантическое напряжение и мучительное противоречие, требующее и не находящее разрешения. Своего рода, «черный квадрат» Блока.
Впечатляющий кластер, дважды повторяемый в стихотворении «Сказка» (из стихов Юрия Живаго), предлагает читателям своего романа Б. Пастернак - как своего рода интеллектуальный «ребус», ждущий разгадки, извлекаемой из сюжетной ткани романа:
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века [Пастернак 1965, 438-439].
Здесь зашифрована чисто русская трагедия интеллигентской мечтательности, соединенной с непрерывным преодолением препятствий и трудностей, которая длится бесконечно, без каких-либо реальных перемен к лучшему. (Стихотворение написано сразу после смерти Сталина.) Собственно, в нем заключено концептуальное ядро всего романа «Доктор Живаго».
Но особенно богата кластерами поэзия О. Мандельштама, который сделал семантический кластер главным тропом своего творчества. Это наблюдение вполне коррелирует с обобщающими выводами о создании Мандельштамом семантической поэтики, в которой «гетерогенные элементы текста, разные тексты, разные жанры (поэзия и проза), творчество и жизнь, все они и судьба - все скреплялось единым стержнем смысла...» [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян 2001, 286], а каждое стихотворение «обязательно несет в себе глубинную смысловую структуру» [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян 2001, 292]. В целом мандельштамовской семантической поэтики кластеры, как правило, и представляют глубинные смысловые структуры, концептуализирующие интенции поэта в широком ассоциативном контексте культуры.
В качестве относительно сложного примера семантического кластера сошлюсь на заключительную строфу второго из двух стихотворений Мандельштама «Ариост» (такие сдвоенные стихотворения, представляющие одну тему с разных точек зрения, М. Гаспаров называет мандельштамовским словом «двойчатка» [Гаспаров 2015, 294)]. Здесь предметом внимания оказываются: «лавчонка мясника», «уснувшее дитя», «ягненок на горе», «монах на осляти», «солдаты герцога, юродивые слегка», а также «винопитие, чума, чеснок» и «свежая утрата» (о которой можно только догадываться). Соединение далеких ассоциаций под знаком «удивления» («мы удивляемся...») предстает смысловым комом, не только рисующим «Феррару черствую» [Мандельштам 1993-1994, III, 72], но и явно скрывающим в себе острое и опасное иносказание о художнике, его историческом времени и власти (в том числе и автобиографически окрашенное). Ведь в первом стихотворении из той же «двойчатки» этот причудливый кластер передает вид, открывающийся Ариосту из «крылатого окна», а, значит, и его образ мира, - «его неистовый досуг - / Язык бессмысленный, язык солено-сладкий...» [Мандельштам 1993-1994, III, 71].
Большинство семантических кластеров, используемых Мандельштамом, представляет собой триады. Вспомним самые хрестоматийные его кластеры. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» [Мандельштам 1993-1994, I, 115]; «Россия, Лета, Лорелея» [Мандельштам 1993-1994,1, 127]; «В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна...» [Мандельштам 1993-1994, III, 71]; «Воронеж - ворон - нож» [Мандельштам 1993-1994, III, 89]; «Читателя! советчика! врача!» [Мандельштам 1993-1994, III, 119]. Во всех этих примерах из Мандельштама три далеких образа (слова, понятия), как правило, взятые из непересекающихся семантических рядов, связаны в тернарные конструкции, общий смысл каждой из которых в принципе затруднен из-за смыслового разброса составляющих каждую триаду компонентов [Кондаков 2017, 30-31; 33-38; 40-41]. Ведь кластерами мы называем не любые три слова, связанные синтаксически или семантически в единый «пучок», а именно слова, обозначающие предметы, связь между которыми, на первый взгляд, совсем не очевидна, даже парадоксальна, противоречива.
Даже классические триады, вроде: «Истина - Добро - Красота», «Свобода - Равенство - Братство», «Творение (Бог-Отец) - Спасение (Бог-Сын) - Духновенность (Дух Святой)» или, скажем, «Православие - Самодержавие - Народность», наполнены исключительной многозначностью и противоречивостью, которые проявляются с особой силой при каждом изменении исторического или актуального контекста, при каждой попытке интерпретировать содержание триады изнутри нее самой или извне. Впрочем, эти триады с вековой и даже тысячелетней историей несут в себе слишком общее, а потому во многом «стертое» содержание, в то время как мандельштамовские тернарные конструкции эксклюзивны и непредсказуемы. Вообще кластер не предполагает выбора между противоречивыми смыслами, соединенными в триаду, не имеет в виду и их сумму или сопряжения. Смысл тернарного кластера должен быть синтезирован читателем в рамках смыслового пространства, образовавшегося между тремя концептами.
Далеко не сразу читатель осознает, что кластер «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (1915) представляет концентрированное выражение мучительных размышлений поэта о причинах мировых войн; концепт «Россия, Лета, Лорелея» (1917) - о трагической повторяемости русской истории и роли культуры в этом; кластер «В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея» (1933) - о почти одновременном наступлении тоталитаризма в Германии, Италии и России; кластер «Воронеж - ворон - нож» (1935) - о неотвратимой гибели поэта, сосланного в город со столь зловещим именем; кластер «Читателя! советчика! врача!» (1937) - об одиночестве, безответности и безысходности поэта - узника и жертвы своей страшной эпохи, вылечиться от которой хочется, но невоз-
МОЖНО.
Главное в каждом из этих и подобных кластеров - отсутствие определенного основания для сравнения трех (как правило) отдаленных образов. Между тем даже простая бинарная оппозиция, соединяющая (или разделяющая) далекие смыслы, проблематична как целое (а в тернарном кластере таких оппозиций - три). Вспоминается крылатая сентенция Н.С. Трубецкого: «Противоположение (оппозиция) предполагает не только признаки, которыми отличаются друг от друга члены оппозиции, но и признаки, которые являются общими для обоих членов оппозиции. Такие признаки можно считать «основанием для сравнения». Две вещи, не имеющие основания для сравнения, или, иными словами, не обладающие общими признаками (например, чернильница и свобода воли), никак не могут быть противопоставлены друг другу» [Трубецкой 2000, 72].
Конечно, сопоставление таких далеких вещей и смыслов, как «чернильница» и «свобода воли», вызывает ощущение неопределенности. Подобная неопределенность в примере Н. Трубецкого носит вполне безобидный характер и может вызвать что-то вроде недоумения. Но ведь есть и гораздо более серьезные бинарные оппозиции, содержащие в себе неразрешимый драматизм и когнитивный диссонанс. Собственно, бинарность словесных формулировок и образных противопоставлений служат одному - осознанию противоречиво-сложной и многослойной текстуры мира. Особенно остро и трагично переживал свое место в мироздании и советском социуме поздний Мандельштам.
Например, в стихотворении «Ариост» мы видим противопоставление «крылатой лошади» (Пегас - поэзия) и «песочных часов» (быстротекущего времени); у первой - «подковы тяжелы» (тяжело взлетать), а вторые - «желты и золотисты» (внешне высокая, но иллюзорная цена) [Мандельштам 1993-1994, III, 72]. В стихотворении «Чернозем» (1935) «Гниющая флейта» (смерть) оппонирует «утреннему кларнету» (жизни), «апрельский проворот» (весеннее настроение) омрачено «черноречивым молчанием» (зловещей безответностью) окружающего мира [Мандельштам 1993-1994, III, 90].
Или, например, «одышливому простору» воронежского Черноземья противостоит «песка слоистый нрав» на берегах Камы, а «отдышавшемуся кругозору» ссыльного поэта - его же созерцание «стремнин осадистых» и слушание «хода кольцеванья» древесин («О этот медленный, одышливый простор!»). Сравнение Мандельштамом своей первой (чердынской) и второй (воронежской) ссылок оказывается не в пользу последней. Черноземная равнина воспринимается поэтически как пустыня, как обреченность на одиночество и неподвижность; а река и лес Пермского края - как живая жизнь, наполненная движением времени и природы [Мандельштам 1993-1994, III, 111].
Или противопоставление «ключу Ипокрены» (означающему с античных времен поэтическое вдохновение) «давнишнего страха струю» (предчувствие политических репрессий и гонений на творчество) («Квартира тиха, как бумага...», 1933) [Мандельштам 1993-1994, III, 75].
Известный исследователь поэтики символизма и постсимволизма О. Ханзен-Лёве, осмысляя «текстуру мира», отображаемую акмеистами, отмечает, что «для Мандельштама двоемирие платонической архитектуры мира и космоса превращается в парадоксальную, оксюморонную двухсторонность противоположных сфер мира. <.. > Ткани мира у Мандельштама служат одновременно мотивами смерти и жизни, саваном, надгробным покрывалом - и свадебной фатой» [Ханзен-Лёве 2016, 172]. Отсюда идет и противоречиво-двойственная текстура поэзии Мандельштама, придающая ей «муаровый» характер.
Однако эта двусторонность поэтического мира поэта постоянно осложняется вторжением (или вплетением) в нее тернарных кластеров. Соединение в одном тексте бинарных и тернарных структур вызывает ощущение неразрешимого диссонанса, внутреннего напряжения и даже деструктивного процесса. Особенно часто встречается этот прием у позднего Мандельштама, текстура поэзии которого строится на основе двусложной «амальгамы», символизирующей неразрывную связь жизни и смерти. С этой «двоичностью» поэтического мира никак не сочетается «троичность» внешнего мира, с которым сталкивается поэт.
В «черно-белую» ткань поэтического текста Мандельштама явственно вписаны изысканные триады: «стон - Прометей - коршун»; «воздушнокаменный театр» как «эхо и привет» от «Эсхила-грузчика» и «Софокла-лесоруба» (дважды тернарный кластер); образ «всех» - «Рожденных, гибельных и смерти не имущих» («Где связанный и пригвожденный стон?», 1937) [Мандельштам 1993-1994, III, 115-116]. «Вино - меха - «в крови Колхиды колыханье»; «Песнь одноглазая» - «дар охотничьего быта» - дыханье» («Пою, когда гортань - сыра...», 1937) [Мандельштам 1993-1994, III, 121]. «Дерево - медь - Фаворского полет»; «смола - «испуганное мясо» - сердце» («Как дерево и медь...», 1937) [Мандельштам 1993-1994, III, 122]. «Задыхаться, чернеть, голубеть»; «Голубятни, черноты, сквореш-ни»; «Лед весенний, лед вышний, лед вешний» («Заблудился я в небе - что делать?», 1937) [Мандельштам 1993-1994, III, 129-130].
Уникален опыт Мандельштама сопрягать бинарность и тернарность в одном тексте:
Может быть, это точка безумия, Может быть, это совесть твоя -Узел жизни, в котором мы узнаны И развязаны для бытия...
(«Может быть, это точка безумия...», 1937)
В этом четверостишии (1-я строфа одноименного стихотворения), на первый взгляд, доминируют бинарные оппозиции: «безумие - совесть», «узел жизни - бытие», «узнаны - развязаны». Однако незаметно из этой дуальной конструкции выступают тернарные связи: «Безумие - совесть - узел жизни»; «узел жизни - узнаны - развязаны»; «мы - узнаны - развязаны»; «мы - узел жизни - бытие». Одни и те же смыслы «тасуются» -то попарно, то троично, образуя плотную сеть концептов, обволакивающую предмет описания.
До конца стихотворения поэт «сплетает» триады из диад, причем ассоциативная логика уводит автора все дальше и дальше от исходных его проблем: «соборы кристаллов - свет-паучок - единый пучок»; «чистых линий пучки - тихий луч - словно гости»; «земля - небо - наполненный музыкой дом»; «не спугнуть - не изранить - если мы доживем»; «говорю -прости - прочти» [Мандельштам 1993-1994, III, 130].
В стихотворении «О, как же я хочу...» (1937) лирическое «Я» поэта мечется между лучом и ничем, между светом и звездой, между «учись» и «лучись», между шепотом и лепетом, между «могуч» и «согрет», между «хочу» и «вручу»... И, проникая в почти неуловимые «щели», отделяющие оттенки смысла друг от друга, это лирическое «Я» становится каждый раз третьим членом диады (невидимой триады), одновременно деятельным и страдательным [Мандельштам 1993-1994, III, 134].
Аналогичным образом рождаются на бинарном фоне тернарные аппликации и в других стихах позднего Мандельштама. Так, обращаясь как бы к кувшину (а на самом деле к самому себе), лирический герой Мандельштама определяет себя триадически: «Длинной жажды должник виноватый», «мудрый сводник вина и воды»; «под музыку», с одной стороны, «пляшут козлята», а с другой - «зреют плоды». Но музыка также триедина: «Флейты свищут, клянутся и злятся», что «беда на твоем ободу / Черно-красном» и «некому взяться / За тебя, чтоб поправить беду» («Кувшин») [Мандельштам 1993-1994, III, 133]. Лирическое «Ты» / «Я» поэта, - в процессе его автокоммуникации выступающее как «средний член» бинарной оппозиции, - то пытается достичь компромисса между противоположностями («должник», «сводник», «обод» (между внутренним и внешним миром), то убеждается в своей обреченности: с одной стороны, грядет неотвратимая беда, а с другой - ее некому поправить, и лирическое «Ты» / «Я» остается беззащитным перед лицом беды.
Сопрягая «волоокого неба звезду», «летучую рыбу-случайность» и «воду, говорящую “да”» [Мандельштам 1993-1994, III, 133], Мандельштам отдавал себе отчет в том, что это - «лебедь, рак и щука», трагически несовместимые, но совмещенные судьбой.
По этой же логике образуется триада: «отборная собачина» - «мертвецы», наделенные «всякой всячиной», - «пустячок пирамид», характеризующая «Египтян государственный стыд» (строй), иносказательно выражающая суть советского строя и иудейский плен в стране фараонов [Мандельштам 1993-1994, III, 132]. Глубокий смысл «египетского» подтекста раскрывает М. Гаспаров в статье «Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама» [Гаспаров 2015, 280-284].
Там же глубоко характеризуется и Франсуа Вийон, воплотивший в себе символический смысл судьбы художника всех времен - неоцененно- го гения, бесприютного бродяги и казнимого государством преступника. Строки, описывающие ренессансную фигуру Вийона, сочетают бинарность и тернарно сть: «Рядом с готикой жил озоруючи / И плевал на паучьи права» - «Наглый школьник и ангел ворующий, / Несравненный Виллон Франсуа» [Мандельштам 1993-1994, III, 132]. Именно фигура Вийона превращает бинарные оппозиции в триады. Метафорические Египет и Франсуа Вийон образуют вместе с лирическим героем Мандельштама, связующим в себе то и другое, столь же безысходную триаду.
Своего «любимца кровного» - Франсуа Вийона - как своего alter ego Мандельштам рисует трижды тройственной формулой:
Утешительно-грешный певец, -Еще слышен твой скрежет зубовный, Беззаботного права истец...
И под самый конец - пронзительное признание:
Он разбойник небесного клира, Рядом с ним не зазорно сидеть: И пред самой кончиною мира Будут жаворонки звенеть [Мандельштам 1993-1994, III, 132].
Проницательный и чуткий читатель Мандельштама С. Аверинцев сформулировал проблему Мандельштама как выпадение поэта из дуальной логики. Мандельштам, - писал он, - «не книжник и не фарисей, не пророк и не учитель. Уж скорее жаворонок, не перестающий звенеть “перед самой кончиною мира”, с хрупким певчим горлом» [Аверинцев 2011, 133]. И пение этого жаворонка можно выразить не в «сарказме» и не в «укоре», а в «благодарности» [Аверинцев 2011, 132]. Триадическая логика рассуждений С. Аверинцева здесь несомненна.
Одно из последних стихотворений О. Мандельштама (из «двойчатки» «Стихи кН. Штемпель») - «Есть женщины, сырой земле родные...» (1937) посвящено смерти и бессмертию. Оно сплетено из парных образов, рисующих погребальное шествие плакальщиц: «родные» - «сырой земле», «каждый шаг» - «гулкое рыданье», «сопровождать воскресших» - «приветствовать умерших», «ласки требовать» - «преступно», «расставаться» - «непосильно»... Из этой вереницы бинарных конструкций вырастают тернарные кластеры, усугубляющие траурное настроение и придающие ему характер вселенских обобщений:
Сегодня - ангел, завтра - червь могильный, А послезавтра - только очертанье...
И далее:

Что было поступь - станет недоступно... Цветы бессмертны, небо целокупно, И все, что будет, - только обещанье [Мандельштам 1993-1994, III, 13 8].
Мы видим, Мандельштам сделал важное поэтическое открытие - рас крыл художественные возможности семантического кластера как нового перспективного тропа, получившего дальнейшее распространение в XX в. Самая трехмерность избираемых поэтом кластеров была интересна своей эстетической и нравственной семантикой, полной острых конфликтов и противоречий, порождавших неопределенность и непредсказуемость в переживании и осмыслении бытия. Творчески наполняя поэтические кластеры культурфилософским смыслом, Мандельштам стремился передать самой поэтикой своего творчества сложность современного ему нравственного, социального и политического мироустройства. Для этого он соединил в текстуре своих произведений бинарные и тернарные структуры, обычно не совместимые. Если бинарные структуры акцентируют проблему выбора между двумя крайностями, то тернарные структуры приводят читателя в область смысловой неопределенности и побуждают его к мыслительной и эмоциональной активности. Совмещение различными способами бинарности как средоточия конфликтности и тернарное™ как многомерности позволило Мандельштаму придать своему поэтическому миру особый трагизм, вполне соответствовавший атмосфере сталинской эпохи и Большого Террора.
Список литературы Семантический кластер в поэтике О. Мандельштама
- Аверинцев С.С. «Город изгнания, город беды…»//Аверинцев и Мандельштам: статьи и материалы. М., 2011. С. 132-133.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 3. М.; Л., 1960.
- Гаспаров М.Л. Ясные стихи и «темные» стихи: анализ и интерпретация. М., 2015.
- Злотникова Т.С. Понятие «кластер» и его значение для гуманитарных исследований//Концепты культуры и концептосфера культурологии/под ред. Л.В. Никифоровой, А.В. Коневой. СПб., 2011. С. 57-66.
- Кондаков И.В. «Тайная поэтика» Осипа Мандельштама//Академические тетради. Вып. 18. М., 2017. С. 28-41.
- Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма//Смерть и бессмертие поэта. М., 2001. С. 282-316.
- Мандельштам О. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1, 3. М., 1993-1994.
- Пастернак Б. Стихотворения и поэмы/сост., подготовка текста и примеч. Л.А. Озерова; вступ. ст. А.Д. Синявского. М.; Л., 1965. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Трубецкой Н.С. Основы фонологии. 2 изд. М., 2000.
- Ханзен-Лёве Оге А. Интермедиальность в русской культуре: от символизма к авангарду/пер. с нем. Б.М. Скуратова, Е.Ю. Смотрицкого. М., 2016.