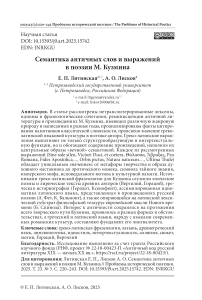Семантика античных слов и выражений в поэзии М. Кузмина
Автор: Литинская Е.П., Лисков А.О.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены нетранслитерированные лексемы, идиомы и фразеологические сочетания, реминисценции античной литературы в произведениях М. Кузмина, имеющих различную жанровую природу и написанных в разные годы, проанализированы факты цитирования памятников классической словесности, прояснено значение греко-латинской языковой культуры в поэтике автора. Греко-латинские вкрапления выполняют не только структурообразующую и интертекстуальную функции, но и обогащают содержание произведений, наполняя их центральные образы «вечной» семантикой. Каждое из рассмотренных выражений (Sine sole sileo, Victori Duci, et coetera, Θάλασσα, Ἄβραξας, Pax Romana, Fides Apostolica…, Orbis pictus, Natura naturans…, Ultima Thule) обладает уникальным значением: от метафоры творчества и образа духовного наставника до эротического намека, символа тайного знания, имперского мифа, исповедального мотива и культурной памяти. Источниками греко-латинской фразеологии для Кузмина служили эпические поэмы и лирические тексты древних авторов (Вергилий, Гораций), греческая историография (Геродот, Ксенофонт), ассимилированная идиоматика латинского языка, представленная в произведениях русской поэзии (А. Фет, К. Бальмонт), а также опирающийся на латинский лексический субстрат философский тезаурус европейской мысли Нового времени (Б. Спиноза). Интерес к античности сохранялся на протяжении всего творческого пути Кузмина, проявляясь в разных формах и обстоятельствах, а греческий и латинский языки, наряду с языками современных романских культур, составляют фундамент его лингвалитета.
Греко-латинская фразеология, латынь, древнегреческий язык, лингвопоэтика, идиостиль, интертекстуальность, аллюзия, сюжет, мотив, Гораций, Вергилий
Короткий адрес: https://sciup.org/147251695
IDR: 147251695 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15742
Текст научной статьи Семантика античных слов и выражений в поэзии М. Кузмина
О пределяя степень влияния на него классической традиции, М. Кузмин писал, что античность играет центральную роль в его самосознании и творчестве1. Интерес к древней литературе и языкам был у Кузмина неизменным на протяжении всего его творческого пути, проявляясь не только в читательских симпатиях, но и в писательской активности: начиная от обращения к традиции католической богослужебной поэзии в раннем творчестве (сочинения для хора “Ave Maria”, “Amor Christi”) и заканчивая переводами памятников античной словесности в поздние годы (роман «Золотой осел» Апулея, отрывок «Прощание Гектора с Андромахой» из «Илиады» Гомера). Исследователи неоднократно изучали рецепцию античности Кузминым [Панова], [Жолковский, Панова]. Однако нетраслитерированная латынь и древнегреческий язык, представленные в его лирике, не подвергались анализу.
Вкрапления в оригинальной латинской и древнегреческой графике, исследованию поэтической функции которых посвящена настоящая статья, у Кузмина немногочисленны, их всего десять.
Впервые латинский язык использован в цикле «Сонеты» (1904–1905). Стихотворение «Без солнца я молчу. При солнце властном…» имеет название “Sine sole sileo”2 с подзаголовком в круглых скобках: «Надпись на солнечных часах». Фраза в своем прямом значении утверждает возможность функционирования солнечных часов только при солнечном свете. В метафорическом — она обобщает взгляд на вселенную, которая без солнца не смогла бы существовать.
Латинское выражение дает начало философскому рассуждению о смысле жизни, судьбе. Кузмин выстраивает стихотворение как оппозицию двух голосов: солнечных часов и поэта, которые по-разному отмечают быстротечность времени. Часы рабски зависят от солнца, бездействуют в ненастье, напоминают о смерти:
«Всем людям: и счастливым, и несчастным,
Я в яркий полдень смерть напоминаю, Я мерно их труды распределяю,
И жизнь их вьется ручейком прекрасным»3.
Первые две строфы своим ровным, монотонным ритмом подражают ходу часов, тогда как слова поэта отмечены рваным, эмоциональным синтаксисом. Поэт свободен, он не боится тьмы, творит, благодаря своему таланту:
«Я не зову трусливых и недужных,
В мой дом лишь смелый и любивший вхожи.
И днем и ночью, в вёдро иль ненастье
Кричу о беззакатном солнце счастья» (613).
Метафора «беззакатное солнце счастья» символизирует неугасимый внутренний свет, вечный идеал, который не зависим ни от каких внешних обстоятельств.
Вынесенная в заглавие латинская фраза выполняет номинативную и структурообразующую функцию. Она становится философским обобщением: не просто надпись, а вечная мудрость, переосмысленная поэтом. Кузмин отталкивается от классической фразы, метафорически описывающей человеческую жизнь без вдохновения, счастья, и развивает тему поэта. Возникает также контраст между холодной формой мертвого языка и страстным посылом поэзии. Так, ср. с В. Маяковским:
«Я буду солнце лить свое, а ты — свое, стихами»;
«Вдруг — я во всю светаю мочь — и снова день трезвонится. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — и солнца» [Маяковский; т. 2: 38].
Характерное для лирического героя Маяковского сближение себя и солнца у Кузмина соответствует обычаю связывать с образом солнца образ возлюбленного (стихотворение «Когда утром выхожу из дома…» из цикла «Александрийские песни»). Если у Маяковского солнце оказывается субъектом стихотворения (с которым герой почти запанибрата), то Кузмин склонен обожествлять светило: так, например, теологична фигура бессмертного бога Ра-Гелиоса в «Александрийских песнях», к которому обращается лирический герой цикла:
«Солнце, солнце, божественный Ра-Гелиос, тебе поют гимны в Гелиополе…» (124).
Лирический герой стихотворения, келейный книжник-«за-творник», объясняется в любви к Ра-Гелиосу как к подари-телю жизни.
Подобную разработку солярной образности возможно найти у К. Бальмонта в книгах 1900-х гг. (как, впрочем, и в сборниках более поздних лет), солярные мотивы достаточно часты в стихах В. Брюсова 1890–1900-х гг. Для Бальмонта важен мотив говорящей знаками природы и связи с ней поэта. Например, программные строки в книге «Будем как солнце» («Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…»4), отсылающие к мысли Анаксагора, корреспондируют с кузминскими «гимнами» солнцу:
«Наверно, в полдень я был зачат, наверно, родился в полдень, и солнца люблю я с ранних лет лучистое сиянье» (112).
Таким образом, смысл, заключенный в латинском выражении, последовательно проступает в стихотворениях 1905–1906 гг., которые, в свою очередь, находятся в созвучии с тематикой русской модернистской поэзии начала XX в.
Следующее использование латинского языка — посвящение “Victori Duci”, в цикле «Вожатый» из третьей части первого сборника стихов «Сети» (1908), навеянного опытом Кузмина в медитировании под наставничеством А. Р. Минцловой.
Дедикация, графически оформленная на латинском языке и зафиксированная в заголовочном комплексе (буквально: «Виктору Вожатому» — Виктору Андреевичу Наумову5), с одной стороны, атрибутирует адресата и устанавливает с ним интимный диалог, с другой — создает обобщенный героико-романтический образ наставника благодаря вариативному переводу лексемы Victor — «Победителю Вожатому»:
«Я цветы сбираю пестрые И плету, плету венок, Опустились копья острые У твоих победных ног» (100).
Мотив плетения венка триумфатору связан с античной образностью. Лексема dux в первоначальном значении — «вожатый, проводник; вожак; глава; военачальник; государь»6. В Императорском Риме и Византии обозначает воинское звание, «военный вождь»7. Кузмин заимствует латинскую форму и наделяет ее важными смыслами, создавая многосоставный образ Вожатого. Как хранитель он обогащен христианскими аллюзиями («прекрасен и крылат», «жених и друг», «светлый воин», «в блистаньи лат» (100, 101, 103, 100)8), оберегает и сопровождает героя: «И пред сиянием лица / Я пал, как набожный скиталец» (102); «Как светом отделен весь внешний мир. / Целую латы твои! / И не влечет меня земной кумир. / Целую крылья твои!» (101); «Воскресший дух неумертвим, / Соблазн напрасен. / Мой вождь прекрасен, как серафим, / И путь мой — ясен» (103).
Христианский образ9 наделяется функциями крылатого бога Гермеса Психопомпа10, проводника душ через реку Стикс в челноке Харона в царство Аида: строки «К широкой выведен реке, / Пытливым вопрошал я взором, / В каком нам переехать челноке» (102) имеют античные реминисценции. Атрибутом Вожатого-Гермеса у Кузмина является зеркало, метафора познания себя. Античную символику дополняют мойры — богини судьбы: «Сестры вертят веретенами / И прядут, прядут кудель» (100).
Вожатый открывает герою путь истины и уподобляется Мессии:
«С тех пор всегда я не один,
Мои шаги всегда двойные, И знаки милости простые Дает мне Вождь и Господин. С тех пор всегда я не один» (104).
«Вождь» в строках финального стихотворения воспроизводит значение латинской формы Dux , сохраняется заглавное написание. Но Вождь теперь и «Господин» — Dominus — Господь. Элемент художественной рамы расширяет интертекстуальность.
Латинское посвящение, вынесенное в сильную претексто-вую позицию и намеренно дублирующее название части сборника, становится отправной точкой в понимании авторского замысла. М. Л. Гаспаров описал общее настроение этой части сборника «Сетей» так: «…"Сердце трепещет и горит огнем в предощущении любви; час трубы настал, свет озаряет мне путь, глаз мой зорок и меч надежен, позабыты страхи; роза кажет мне дальний вход в райский сад, а ведет меня крепкая рука светлоликого вожатого в блеске лат"…» [Гаспаров, 1988: 132]. Вожатый в контексте стихотворений не только земной проводник (учитывая реального адресата), но и посредник, открывающий божественную любовь.
Таким образом, в имени Victori Duci зашифрована античномифологическая, христианская и символистская образность, объясняющая своеобразие инициатического сюжета поэтического цикла, сопрягающего мотивы любви, религиозного посвящения, стремления к Богу (мессианский мотив).
Посвящение на латыни Victori Duci представляет собой одно из ранних обращений Кузмина к мифологеме вожатого, имеющей религиозный и эротический подтекст и представленной как в поэзии (книга «Вожатый», циклы «Осенние озера» и «Осенний май»), так и в прозе («Крылья», «Нежный Иосиф», «Мечтатели», «Приключения Эме Лебефа»).
Использование латинского языка фиксируется не только в текстах традиционно любовной лирики, подразумевающих серьезное отношение к предмету (цикл «Вожатый»), но и в произведениях шутливо-фривольного стиля («Занавешенные картинки»). Латиноязычные вкрапления в практике поэта не всегда обусловливаются культовым значением языка (письменность католической культуры, важной в первых частях повести «Крылья», язык богослужения и одической поэзии Горация). Латынь осмысляется Кузминым всесторонне, в том числе как язык Апулея, любимого писателя Кузмина, и Петрония.
Эротическое стихотворение «Купанье» («Ах, прелестны, вы малютки…») (1918) из книги «озорных» произведений «Занавешенные картинки» (1920) содержит выражение “et coetera”:
«Без желанья, без тревоги Караулит, вас любовь.
Надоумит, иль отравит, А отрава так стара! —
Но без промаха направит Руку, глаз et coetera» (355).
Обобщающая романская форма et coetera выведена в акцентную внутритекстовую позицию (создает рифму) и восходит к латинскому et cetera — и так далее . Рискнем предположить, что автор обыгрывает смыслы, соединяя графически et cetera и coetus, us m — половая связь. Тонкий, шутливый намек, выраженный в латинской форме, придает всему стихотворению особую игривость. Структурообразующая функция дополняется стилистической, латинская форма становится элементом, создающим изящный стих. Такой художественный прием является особенностью поэтики Кузмина.
Попутно отметим, что книга имела вступление, опубликованное М. Л. Гаспаровым, в котором вновь присутствует образ Амура-вожатого:
«Быстрый, розовый, крылатый
Тот вожатый,
Кем наш стан и луч храним.
Он проворнее пилота —
С ним болота
На крылах перелетим» [Гаспаров, 1993: 155–156].
Нетранслитерированная форма на древнем языке часто выделяется Кузминым композиционно: она завершает поэтический текст. Так, например, происходит в стихотворениях «Враждебное море» (1917), «Базилид» (1917) и «Эней» (1920).
«Враждебное море», ода пиндарического типа с элементами эпиникия11, сочетается с авангардистской поэтикой (неслучайно стихотворение имеет посвящение В. В. Маяковскому). Многочисленные аллюзии на античную мифологию дополняются реминисценциями из греческих историков. Ци тата из «Истор ии» Геродота ( от строки «И побледневший…»
до «…подпруга)» ) 12 соединена с пересказом эпизода, известного по «Анабасису» Ксенофонта13:
«И побледневший от жатвы ущербный серп валится в бездну, которую безумный Ксеркс велел бичами высечь
(цепи — плохая подпруга)
и увидя которую десять тысяч оборванных греков, обнимая друг друга, крича, заплакали: "Θάλασσα"!» (336).
Исторический сюжет Кузмин сокращает, оставляя эмоциональные акценты. Возглас “Θάλασσα!” («Море!») он приводит в эллинистическом, византийском написании, усиливая современный подтекст. Ведь речь идет о не названной в стихотворении Первой мировой войне [Пахомова: 21]. Важно, вероятно, учесть, что исход войны, до которого весной 1917-го остается еще год, во многом решался на океанских фронтах. Море в стихо творении перестает быть враждебной силой:
оно желанно и дарит свободу грекам. Использование «чужого» языка придает возгласу “ Θάλασσα! ” сакральное значение, а на фонетическом уровне (звуки θ , удвоение σ ) имитирует шум волн, усиливая образ. Так создается художественное пространство: чуждое и таинственное. Море враждебно ксерксовым войскам как не ведающим его, они не способны его «укротить». Для греков же море — естественная стихия. Концовка по-новому трактует заглавие и выполняет смысловую функцию. Греческая лексема, являясь финальной в стихотворении, придает завершенность всему тексту, становясь культурным кодом, отсылающим к античности.
Подобную же художественную функцию выполняет слово Ἄβραξας в «Базилиде» из цикла гностических стихотворений «София» (сборник «Нездешние вечера»). Название стихотворения ассоциировано с именем александрийского гностика Базилида, элементы учения которого Кузмин перечисляет: эон, плерома, «Семинебесных сфер / Кристальная гармония» и, конечно, Абраксас — имя Бога у последователей философа, которое часто указывалось на амулетах14. Стихотворение — размышление стареющего героя, уставшего от мира, желающего умереть, перед которым неожиданно открывается новая жизнь. Он вновь приобретает силу, освобождает себя от обыденности, полон жизни. Символом его перерождения становится амулет с надписью Ἄβραξας:
«В руке у меня был полированный камень, Из него струился кровавый пламень,
И грубо было нацарапано слово: Ἄβραξας » (439–440).
Мистический смысл лексемы мы трактуем вслед за Кузминым по его наброску письма в редакцию «Красной газеты» так:
«Происхождение слова Абраксас темно и недостаточно исследовано. Значение его отнюдь не смысловое или мифологическое, а звуковое и числовое. На гностических амулетах оно писалось различно, но в подавляющем большинстве случаев именно Абраксас. Изображения, иногда сопровождавшие его, тоже не были одина ковы: солнц е, человек, стоящий на быке, и т. п.»15.
Древнегреческая форма, выделенная в постпозиции, аккумулирует в себе смысл всего стихотворения: символизирует тайное знание, мистическое преображение. Как референция к древним текстам, она создает эффект подлинности. Ἄβραξας является средством архаизации текста, связывает его с гностическими произведениями (слово-знак), своим звучанием создает мистическую тональность.
В стихотворении «Эней» (1920) (цикл «Стихи об Италии») латинское нетранслитерированное сочетание также представляет собой финальное восклицание:
«Спинной хребет согнулся и ослаб Над грудой чужеземного богатства, — Воспоминание мужского братства В глазах тиранов, юношей и пап.
И в распыленном золоте тумана
Звучит трубой лучистой: "Рах Romanа"» (449).
Стихотворение завершается пророчеством, обещанием славного будущего Энеева (в соответствии с одним из позднеримских преданий) царства — выражением “Pax romana” («Римский мир»), определяющим зéмли, завоеванные Римской империей (основанной, согласно преданию, троянцем Энеем). Фраза выделяется фонетически. Резкий x в pax диссонирует с плавными русскими звуками. Romanа, напротив, гармонизирует, ритмизирует стих.
Величие по-прежнему царственного Рима открывается русскому путешественнику в Италии. В стихотворении упомянуты карфагенская царица Дидона, капитолийская волчица и вскормленные ей близнецы Ромул и Рем (как прародители римлян). В последнем стихе второй строфы по-русски дана фраза, приписанная Кузминым Энею: «Город на крови построю» (448). В тексте «Энеиды» Вергилия найти полностью эквивалентного высказывания не удалось. Возможно, «на крови» сосредотачивает содержание финальных четырех книг поэмы, детально рассказывающих о битвах Энея и его соратников с местными племенами.
Перечисление фактов римской истории (фольклорных сюжетов — о спасении на Капитолийском холме, пророчестве Энея) готовит «глас трубы», возвещающий лозунг на латинском языке, — замыкающий стих — кульминационная строчка стихотворения. “Рах Romanа” не просто историческая отсылка, а сложный образ, включающий имперский миф, личную драму героя, а также авторскую стилистическую игру с античной фразой.
Высказывание на классическом языке может закольцовывать стихотворение. Так происходит в стихотворении “Fides Apostolica” (1921), посвященном Ю. Юркуну, из цикла «Пути Та-мино» (сборник «Параболы»), которое открывается двустишием “Et fides Apostolica / Manebit per aeterna…”, буквально: «И вера Апостольская пребудет в вечности». Прокомментируем сочетание per aeterna . После предлога per , требующего винительного падежа, идет субстантивированное прилагательное среднего рода в форме множественного числа, словарная форма которого aeternus, a, um — вечный . Нам не удалось найти источник фразы. Предполагаем, что это авторское предложение. Однако оно работает как цитата и символически отсылает к тексту Credo.
Кузмин обращается к евангельской теме ученика и Учителя, используя язык католической церкви, что придает строкам торжественность и сакральность:
«Et fides Apostolica
Manebit per aeterna…» (505).
Многоточие усиливает мотив воспоминания, размышления. Тема развивается на стилистическом контрасте:
«Я вижу в лаке столика Пробор, как у экстерна» (505).
«Соединение в первой строфе предложений на латинском и русском языках задает характерный для биографии и творчества поэта мотив взаимодействия восточного и западного» [Табункова: 121], а столкновение высокого и бытового, сакрального и светского является элементом модернистской эстетики Кузмина.
Русские строки вводят лирическое «я» — учителя и объекта — «экстерна», то есть вольнослушателя в учебном заведении, того же ученика, за образом которого, возможно, скрыт Ю. Юркун. В такой диспозиции может присутствовать намек на более глубокую и близкую связь между субъектами. Он как будто напрашивается, когда мы учитываем посвящение, поскольку союз Кузмина и Юркуна зиждился на ролевой модели «учитель (воспитатель) — ученик (воспитанник)», особенно, по свидетельствам самого Кузмина, в первые годы, 1910-е, и в последние, 1929–1936. Об этой двойственности кузминского мировоззрения, сопрягающего без явных и значимых для поэта противоречий христианскую этику сильного религиозного чувства и последовательный гомоэротизм эпикурейского рода, писала Е. В. Тырышкина [Тырышкина].
Кроме того, из автобиографической заметки Кузмина известно, что его незавершенное обращение в католическую веру связано с переживанием наставнического и любовного сюжета. Возможно с осторожностью предположить, что «экстерном» de facto был Кузмин, а наставником — каноник Мори. В стихотворении субъекты поменялись местами. См. в очерке Богомолова:
«Описание поездки может быть восстановлено по кратким записям введения к дневнику и по письмам к Чичерину, повествующим более подробно о художественных впечатлениях того времени. Внешняя канва была такой: "Рим меня опьянил… <…> Юша <Г. В. Чичерин> свел меня с каноником Mori, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением. <…> Я не обманывал его, отдавшись сам убаюкивающему католицизму, но форменно я говорил, как я хотел бы "быть" католиком, но не "стать". Я бродил по церквам, по его знакомым, к его любовнице, маркизе Espino-si Moroti в именье, читал жития святых, особенно S. Luigi Gonzaga, и был готов сделаться духовным и монахом. Но письма мамы, поворот души, солнце, вдруг утром особенно замеченное мною однажды, возобновившиеся припадки истерии заставили меня попросить маму вытребовать меня телеграммой" ("Histoire édi-fiante…")» [Богомолов, 1995: 18].
В таком случае фигуры Учителя и Ученика раскрываются глубже. Не исключено, что первичным источником образов послужили все-таки взаимоотношения Кузмина с Юркуном.
Стремление Кузмина «быть», но не «стать» католиком показательно: художественный, творческий опыт (испытать и описать), по Богомолову, для него важнее собственно духовного решения (крещения в новую веру).
«Католическую» аллюзию поддерживают строки:
«Левкой ли пахнет палевый?
(Тень ладана из Рима?) Не на заре ль узнали вы, Что небом вы хранимы?» (506).
Латинская фраза, вынесенная в название, выполняет номинативную функцию. Она является сакральным контрапунктом бытовым и эстетским образам, работает как рефрен, обрамляя стихотворение, формирует кольцевую композицию и дает ощущение цикличности времени:
«Моя душа, как бабочка, Летит на запах липки.
И видит в лаке столика Пробор, как у экстерна, Et fides Apostolica Manebit per aeterna» (506).
Теперь субъект — душа лирического героя, обращенная к объекту — ученику. Образ бабочки-души освещается как психея ищущая, колеблющаяся. Латинская фраза о преданности учеников Христу из начального размышления становится утверждением. Она как бы стабилизирует поток образов, напоминая о вечном. Кузмин синтезирует религиозный мотив с любовным. Латинский язык, вводящий новозаветные аллюзии, обращает автора к той эпохе, которая символизирует неизменность традиции, и освобождает его от «жизни, полной невзгод и угнетения» [Марков: 156]. Автор в стихотворении мастерски перемежает культурные и исторические ассоциации: Запад, Восток, Античность. Так, латинский язык создает интертекстуальность, вводит христианские (католические) аллюзии, описание современности открывает тему Востока и, наконец, образ бабочки, олицетворяющей душу, взят из Античности.
Иной пример использования латыни имеем в стихотворении «Античность надо позабыть…» (1924) из цикла «Новый Гуль», где автор упоминает “Orbis pictus” и сопровождает его своим комментарием: «"Orbis pictus" — "Вселенная в картинах" — распространенные в старину альбомы — географическая, этнографическая, историческая и ремесленно-художественная наглядная энциклопедия. Особенно замечателен "Orbis pictus" Д. Ходовецкоrо с учениками» (522). Кузмин неоднократно называет имя немецкого графика и живописца Даниэля Ходовецкого (1726–1801) в «Дневнике 1934 года». “Orbis pictus” Ходовецкого, как и иные подобные издания, — подражание иллюстрированной энциклопедии “Orbis sensu-alium pictus” (1653) Яна Амоса Коменского.
Приведем текст стихотворения:
«Античность надо позабыть Тому, кто вздумал Вас любить, И отказаться я готов
От мушек и от париков, Ретроспективный реквизит Ненужной ветошью лежит, Сегодняшний, крылатый час Смеется из звенящих глаз, А в глубине, не искривлен, Двойник мой верно прикреплен, Я всё забыл и всё гляжу — И "Orbis pictus" нахожу.
Тут — Моцарт, Гофман, Гете, Рим, — Всё, что мы любим, чем горим, Но не в туман облечено, А словно брызнуло вино Воспоминаний. Муза вновь, Узнав пришелицу-любовь, Черту проводит чрез ладонь… Сферически трещит огонь…» (520, 522).
Лирический герой готов отказаться от античной гармонии, культурного прошлого, любых формальностей (важных в творческом самоопределении Кузмина, находящего в галантной эпохе «мушек» и версальских карнавалов, как и в александрийской античности, свой «золотой век»; см. подробнее: [Богомолов, Малмстад]) — ради новой, реальной любви.
«Сегодняшний, крылатый час Смеется из звенящих глаз, А в глубине, не искривлен, Двойник мой верно прикреплен» (522).
Метафора стремительного времени, скоротечности жизни, ценности настоящего момента является аллюзией на гораци-анский мотив “carpe diem” из Carm. I, 11, который через стихотворения-посредники заимствуется и Кузминым. Образное выражение «крылатый час» отсылает к посланию В. А. Жуковского <К А. Ф. Воейкову> (1814):
«О друг мой! жизнь крылатый час!
Мы радость ловим здесь украдкой!
Нет прочных благ в сей жизни гадкой;
Настал в Саратов ехать час» [Жуковский: 317].
Возможным источником считаем также стихотворение А. Фета «Чем безнадежнее и строже…» (1861):
«Чем безнадежнее и строже
Года разъединяют нас, Тем сердцу моему дороже, Дитя! с тобой крылатый час» [Фет: 51].
И Кузмин, и Фет обращаются к выражению в любовной лирике, не предполагающей насмешливой двойственности прочтения, в отличие от Жуковского, чье послание выдержано в шутливо-дружеском тоне, подчеркнутом выбором эпитета («гадкий») и обусловленном обстоятельствами создания произведения. Послание написано совместно с М. А. Протасовой по случаю отъезда Воейкова из Муратова в 1814 г. [Жуковский: 664], его сюжет не предполагает обобщения, его смысл вполне четко локализован.
У Фета в первоначальной редакции — прожитый час [Фет: 51, 387]. Указанное обстоятельство позволяет предположить, что в понимании Фета крылатый означает «невозвратно ушедший». Окончательное решение — крылатый, пойманный (carpe) и сохраненный в памяти — усложняет, дополняет смысл послания: память сохраняет и бережет «летучее» мгновение. Фет, как известно, переводил античную поэзию, в том числе горациево «Послание к Пизонам», а значит, идиоматика римского автора не была чуждой русскому поэту.
Художественная функция введенного названия любимой книги на латинском языке состоит в создании ретроспективного пространства, которое наполнено любовью и тем самым гармонизирует настоящее, в котором
«…Муза вновь,
Узнав пришелицу-любовь, Черту проводит чрез ладонь… Сферически трещит огонь…» (522).
Наречие «сферически» семантически связано с отражением в зрачке (двойник) и коррелирует со словарным значением orbis — окружност ь. На первый взгляд, «Античность надо позабыть…», однако ее символика, смыслы остаются неизменными в виде образов музы, поэта, любви и восприняты не без влияния пушкинской традиции — вспомним хотя бы стихотворение «В крови горит огонь желанья…» (1825).
Так образ “Orbis pictus” становится в стихотворении символом культурной памяти человека, в котором сливаются и музыка, и литература, и история. «Мир в картинках» не абстрактный, а осязаемый, яркий, как «брызнувшее вино». Настоящее искусство, как и любовь, — живое, страстное переживание. Любовный (идеальный) мир Кузмина наполнен обязательными артефактами дорогой ему культуры (Рим, Гете, Моцарт, классическая культура).
Следующее вкрапление представляет собой перевод заглавия «Природа природствующая и природа оприроденная» (цикл «Панорама с выносками» (1926), сборник «Форель разбивает лед») на латинский язык: “Natura naturans et natura naturata” (546). Термины восходят к средневековой философии и стали концептуально значимыми для Спинозы, использовавшего их в своем трактате «Этика» (I, 29).
Формы naturans и naturata образованы по традиционной схеме от глагола [naturare], отсутствующего, однако, в Lewis and Short’s Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary, Thesaurus Linguae Latinae и в латинско-русском словаре И. Х. Дворецкого. В буквальном переводе naturans — причастие настоящего времени действительного залога, то есть natura naturans — природа природствующая, природотворящая; naturata — перфектное причастие прошедшего времени, то есть natura naturata — природа природосотворенная.
Латинская фраза становится ключевым концептом, организующим текст. Философский заголовок стилистически диссонирует с последующим текстом стихотворения, несерьезным и даже комическим. Первоначальное заглавие — «Зверинец» [Богомолов, 1996: 772] — наглядно подтверждает мнение А. Синявского, что стихотворение является пародией на жанр “Orbis pictus” («Мир в картинках»), для которого было характерно контрастное соединение представлений о мире — от примитивных до возвышенных: «…С точки зрения Кузмина, зверинец в бараке, олицетворяющий весь видимый, низменный, материальный мир, это Natura naturata. То есть — нечто производное по отношению к вывескам, которые и являют собою истинную, первичную природу этих зверей — Natura naturans. Вывески — это божественные идеи зверей и благодаря вывескам появился этот уже тварный и тлетворный мир зверинца. И потому Кузмин не хочет идти в зверинец, оставаясь с вывесками, оставаясь с искусством, как с высшим знаком божественной и созидающей реальности» [Синявский: 61–62].
Таким образом, в данном стихотворении латинский текст выполняет не только номинативную (задает тему в названии) и интертекстуальную (обращение к философской концепции) функцию, но и поэтическую. Кузмин играет с формами, через лингвистическую оппозицию («Природа природствующая и природа оприроденная» — “Natura naturans et natura natu-rata”) создает пародию.
В последнем латинском примере, который мы рассматриваем, фразеологическое явление не упомянуто, но подразумеваемо. В «Первом ударе» (1927), относящемся к циклу «Форель разбивает лед» из одноименного сборника, указана среди прочих «предельных» локаций Тула (Тулэ), что побуждает вспомнить идиоматическое Ultima Tule — Последняя Тулэ:
«Луна как будто с севера светила: Исландия, Гренландия и Тулэ, Зеленый край за паром голубым…» (533).
Значение латинской формы укрепляет смысл стиха и стихотворения в целом (Исландия, Гренландия — крайние точки ойкумены, заселенные регионы атлантического бассейна) и актуализирует мотивы предела, завершения, выплескивания16.
Таким образом, интегрированная в поэтические тексты исконная латинская и греческая графика имеет различное назначение. Латинские фразы в сильной текстовой позиции, как например название Sine sole sileo , дедикация Victori Duci или же заглавие Natura naturans et natura naturata , заявляют тему и становятся источником раскрытия авторского смысла, выполняя номинативную, структурообразующую, интертекстуальную функции. Фраза Fides Apostolica … не только структурирует стихотворение, создавая кольцевую композицию, но и обогащает текст христианскими аллюзиями, связывает его с европейским культурным наследием. Выражение et coetera , намекая на язык Апулея или Петрония, добавляет тексту изящества и имеет стилистическую функцию. Греческие лексемы “ Θάλασσα! ” и Ἄβραξας , завершая лирический текст, своим звучанием усиливают эмоциональное воздействие и приобретают поэтическое значение.
Латынь и древнегреческий язык становятся культурным кодом, отсылающим к вечным темам. Так, Sine sole sileo (Без солнца я молчу) является метафорой творчества. Посвящение Victori Duci (Виктору Вожатому) вводит образ духовного наставника. Изящный эвфемизм et coetera (и так далее) привносит в текст эротический намек. “Θάλασσα!” («Море!») — античная метафора спасения, прочитанная в контексте актуальных исторических событий. Слово-знак Ἄβραξας (Абраксас) указывает на тайное знание, преображающее личность. Pax Romana (Римский мир) является символом любой империи, включая современную автору. Двустишие Et fides Apostolica / Manebit per aeterna… («И вера Апостольская пребудет в вечности») обладает сакрально-исповедальным значением. “Orbis pictus” («Вселенная в картинах») выражает культурную память человека. Natura naturans et natura naturata (Природа природ-ствующая и природа природосотворенная) имеет философско-эстетическую семантику. Имплицитная форма Ultima Thule (Последняя Тулэ) оказывается символом предела, края земли, завершенности.
Поэзия Кузмина, основанная на синтезе культурных эпох, соединяет античность, христианство и модернизм. Латино-и грекоязычные вкрапления в рассмотренных стихотворениях не просто выступают приемом стилизации, но устанавливают структурный стержень и смысловую доминанту текста, включают произведение в интертекстуальный диалог с обширной традицией, открывают перспективу тысячелетней истории человечества.