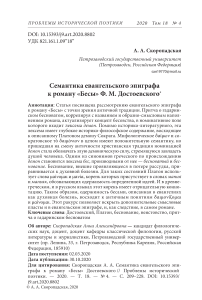Семантика евангельского эпиграфа к роману "Бесы" Ф. М. Достоевского
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению евангельского эпиграфа к роману «Бесы» с точки зрения античной традиции. Притча о гадаринском бесноватом, коррелируя с названием и образно-смысловым наполнением романа, актуализирует концепт бесовства, в номинативное поле которого входит лексема демон . Помимо историко-литературного, эта лексема имеет глубокое историко-философское содержание, восходящее к описанному Платоном демону Сократа. Мифологическое δαίμων и сократовское τὸ δαιμόνιον в целом имеют положительную семантику, но пришедшая на смену античности христианская традиция номинацией демон стала обозначать злую демоническую силу, стремящуюся завладеть душой человека. Одним из синонимов греческого по происхождению демон становится лексема бес , производными от нее - бесноватый и беснование . Беснование, внешне проявляющееся в потере рассудка, приравнивается к духовной болезни. Для таких состояний Платон использует слова μαίνομαι и μανία, корень которых присутствует в словах мания и маньяк , обозначающих одержимость определенной идеей. И в древнегреческом, и в русском языках этот корень имеет отрицательную коннотацию. Таким образом, одержимость бесами, описанная в евангелиях как духовная болезнь, восходит к античным понятиям δαιμονίζομαι и μαίνομαι. Этот ракурс позволяет вскрыть дополнительные смысловые пласты и в евангельском эпиграфе, и, как следствие, в самом романе.
Достоевский, платон, беснование, неистовство, притча о гадаринском бесноватом
Короткий адрес: https://sciup.org/147227217
IDR: 147227217 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8802
Текст научной статьи Семантика евангельского эпиграфа к роману "Бесы" Ф. М. Достоевского
Р азвитие европейской философской культуры проходило под непосредственным влиянием античной традиции: древнегреческие и римские философы заложили основание последующих научных теорий, концепций, течений. Античная философия повлияла на святоотеческое богословие, а через него — на русскую философскую мысль, ярким представителем которой является Ф. М. Достоевский. Увлеченность писателя философией1 претворилась в осмысление многих философских вопросов, берущих свое начало в античности. Среди античных авторов, несомненно повлиявших на Достоевского, особое место занимает Платон2. Прямых упоминаний древнегреческого мыслителя в художественных и публицистических произведениях Достоевского немного, но имеющиеся отсылки к платоновским идеям дают богатый материал для размышлений. Так, некоторые литературно-философские параллели обнаруживаются в романе «Бесы».
На начальных этапах работы над «Бесами» Достоевский нарекает именем Платон (11, 47) героя неосуществленного замысла «Картузов», который частично был воплощен в романе. Портретные и психологические черты Картузова, скрупулезно подбираемые писателем, складываются в образ рассеянного мечтателя, наделенного добрым сердцем (замысел повести возник у Достоевского во время работы над «Идиотом», и Картузов — своего рода «духовный брат князя Мышкина» [Мочульский: 541]), но не отличающегося широтой ума и хорошим образованием. Единожды назвав героя по имени-отчеству (Платон Егорович), Достоевский опирается на православную традицию имянаречения: оним «Платон» встречается в святцах. Однако происхождение имени восходит к древнегреческому философу, что порождает дополнительные ассоциации, расширяющие палитру возможных толкований характера Картузова.
В рабочих материалах к «Бесам», которые часто представляют собой прописанные сцены3, Достоевский, развивая тему самосовершенствования, вкладывает в уста Шатова следующее рассуждение: «Знаете ли вы, как силен “один человек” — Рафаэль, Шекспир, Платон и Колумб или Галилей? Он остается на 1000 лет и перерождает мир — он не умирает» (11, 168).
В романе сохранилась одна прямая отсылка к Платону — к его идее идеального государства, наиболее полно представленной в трактате Πολιτεία («Государство» / «Республика»). Шигалев, один из идеологов революции, начинает с отрицания предшествующего исторического опыта:
«— Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187… года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — всё это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого» (10, 311).
Именно этот пассаж чаще всего становится поводом к рассуждению об отношении Достоевского к Платону. Так, исследователи определили публицистический контекст знакомства русского писателя с современными ему интерпретациями платоновских идей: в 1870 г. в журнале «Заря» были опубликованы две рецензии на издания Платона ( А. Сюдр «История коммунизма» (СПб., 1870) и Д. Щеглов «История социальных систем от древности до наших дней» (СПб., 1870) ) , подробно излагавшие утопию Платона (см.: 12, 212). Однако сущностная близость философских взглядов античного мыслителя и русского писателя выходит за рамки социально-политической проблематики, пародийно представленной в ши-галевской концепции идеального общества. Вл. Ильин, раскрывая решающую роль идей в творчестве Достоевского, отмечает, что «совершенно естественно сопоставить его с Платоном и даже признать его русским Платоном» [Ильин: 428]. Явные переклички с идеями Платона, на наш взгляд, имеет идея бесовства.
Идейный замысел романа созревал мучительно и претерпел несколько кардинальных переработок. Тем не менее уже на ранних стадиях герой-демон становится центральной, смыслообразующей фигурой романа. Рабочие материалы отражают генезис его идейного содержания и образного воплощения: «ВООБЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ, что Князь обворожителен, как демон» (11, 175); «16 августа <1870>. Князь — мрачный, страстный, демонический и беспорядочный характер, безо всякой меры, с высшим вопросом, дошедшим до “быть или не быть?”» (11, 204).
Лексема «демон» становится одним из вариантов реализации концепта бесовства, идейная значимость которого репре-зентуется заглавием романа, являющимся символической метафорой [Захаров, 2012: 654], и двумя эпиграфами. Подробный анализ данного концепта приведен в статье Н. О. Булгаковой и О. В. Седельниковой [Булгакова, Седельникова], которые определяют бесовство как базовый концепт романа и обнаруживают ядерные номинативные лексемы, при помощи которых он объективируется. Выявляя номинативное, семантическое и аксиологическое поля концепта, исследовательницы определяют их связь с национальной картиной мира и уточняют степень авторского переосмысления концепта. Однако не все аспекты заявленной темы были учтены и раскрыты. В частности, упомянув номинацию «демон», они затрагивают только ее историко-литературное содержание, восходящее к русской и европейской романтической традиции, наиболее ярко представленной творчеством Байрона и Лермонтова. Подобный ракурс освещения темы свойственен исследователям демонизма у Достоевского ([Сараскина], [Жи-лякова], [Касаткина] и др.). Во многом такой подход определяется самим Достоевским, который в «Ряде статей о русской литературе» называл 1840 г. «эпохой демонических начал», выделяя в ней двух «демонов» — Гоголя и Лермонтова. Эти прямые номинации присущи публицистическому жанру, в то время как специфика художественного произведения не предусматривает подобной прямолинейности — здесь используется язык образов, анализ которых помогает выявить смысловые напластования. Так, в качестве основания темы демонизма и демонических образов исследователи указывают на философскую традицию, но подробно ее не рассматривают. Между тем именно античная философия ввела понятие демона (варианты — даймона / даймония). Более всего известен «демон Сократа», описанный многими античными авторами, но самую емкую трактовку получивший у Платона: «То, что у Сократа носит характер неопределенный, что присутствует по большей части в качестве интуиций, у его великого учени- ка приобретает понятийные черты, хотя и облеченные в мифологические образы» [Туровцев].
Обратимся к терминологической составляющей понятия. Древнегреческое δαίμων, от которого в русском языке происходит слово «демон», имеет значения бог / богиня, божество, божеское определение, злой рок, несчастье, душа умершего 4. Как видно, в античности эта лексема не содержала ярко выраженных негативных коннотаций. Христианская религиозно-философская мысль закрепила за словом «демон» однозначно отрицательное значение, выведя его из сферы боже-ственного5. Вследствие этого русифицированное «демон» в переводах античных авторов, и прежде всего Платона, не используется. Так, для обозначения «демона Сократа» применяется или транслитерация δαίμων / даймон , или латинское слово гений (genius)6. Однако и тот, и другой вариант не отличаются смысловой точностью в русском языке.
Сократовский демон генетически связан с мифологическим даймоном: δαίμονες — второстепенные божества, выполняющие посреднические функции между богами и людьми. Но Сократ несколько переосмысливает природу этих потусторонних существ и своего δαίμων’а называет τὸ δαιμόνιον, образуя форму имени прилагательного. Примечательно, что в предисловии к «Апологии Сократа» В. Н. Карпов, автор единственного академического перевода сочинений Платона в середине XIX столетия, подробно останавливается на этом, делая грамматические и логические объяснения сократовского термина, который выражает не объективное бытие божества (существительное), а «действие его на человеческую душу, или нечто божественное в человеке» (прилагательное) [Карпов: 394]. Таким образом, складывается общая характеристика понятия: «Под словом τὸ δαιμόνιον или δαιμόνιόντι, сын Софрониска разумел, кажется, божественную стихию человеческой души, небесное сокровище нашего бытия, единственный источник всего истинного, доброго и прекрасного в области наук, искусств и жизни практической» [Карпов: 394].
Этот лингвистический экскурс позволяет в новом ключе интерпретировать второй эпиграф к роману «Бесы», являющийся цитатой из Евангелия от Луки.
В переводах на русский язык древнегреческих новозаветных текстов к греческому τὸ δαιμόνιον применяется слово «бес». Евангельский эпиграф (притча о гадаринском бесноватом) может служить иллюстрацией к этой переводческой традиции:
«Бесы (τὰ δαιμόνια), вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. <…> и, пришед-ши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы (τὰ δαιμόνια), сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся (ὁ δαιμονισθείς)» (10, 498–499).
Примечательно, что варианты этой притчи, приводимые в Евангелиях от Матфея и от Марка, слова τὸ δαιμόνιον не содержат. Так, в Евангелии от Матфея (Мф. 8:28–34) используется слово δαίμων7: «И бесы (οἱ δε δαίμονες) просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Мф. 8:31–32). А в Евангелии от Марка (Мк. 5:1–17) говорится о «нечистом духе»: «Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый (τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον), из сего человека. <…> И просили Его все бесы8, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи (τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα), выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море» (Мк. 5:8, 12–13). Вряд ли выбор Достоевским притчи из Евангелия от Луки основан на древнегреческом первоис-точнике9, но выбор этот символичен.
Обратимся к семантике сократовского даймония. Те или иные его свойства описываются в разных платоновских диалогах. Даймоний соединяет человека с богом (Пир, 202 d, 203 а), Сократу он начал являться с детства и является постоянно (Эвтидем, 273 е), даймоний бесплотен, и Сократ может только слышать его, причем слышимый ему голос нельзя назвать отчетливым (Федр, 242 с), он никогда не побуждает к действию, но предостерегает от совершения нежелательного поступка (Апология Сократа, 31 d). Существуют многочисленные интерпретации сократовского даймония. Противоречиво оценивали его, например, отцы церкви, называя то дьявольским существом (Тертуллиан, Лактанций, Григорий Палама), то прообразом ангела-хранителя (Климент Александрийский, Августин)10. В святоотеческой традиции Сократ занимает особое место, считаясь «христианином до Христа» (Иустин Философ): он «первый стал утверждать, что добродетель есть знание», став «фигурой, сближающей древнегреческую философию и христианскую религию» [Филин: 182]. Но даже в случае благосклонного отношения к учению Сократа раннехристианские авторы именовали даймония «демоном» и подобной номинацией привносили (в большей или меньшей степени) отрицательный элемент в оценку этого явления. В пришедшей на смену античности христианской традиции номинация демон претерпела кардинальные смысловые изменения и стала обозначать злую демоническую, бесовскую силу11, стремящуюся овладеть душой человека, а также темную сторону личности.
Именно в этом значении лексема используется в романе «Бесы». Так, Варвара Петровна, цитируя Степана Трофимовича, говорит о своем сыне, Николае Ставрогине, что его терзает демон иронии («был бы спасен от грустного и “внезапного демона иронии”, который всю жизнь терзал его» — 10, 151). Эта характеристика, принадлежащая Верховенскому-старшему, представителю поколения 1840-х гг., имеет явный романтический оттенок. В конце главы «Поединок» Даша говорит Ставрогину: «Да сохранит вас Бог от вашего демона…» (10, 231), на что Ставрогин отвечает: «О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся» (10, 231). Ставрогинский демон самим Ставрогиным разжалован до статуса бесенка: нивелируется его романтическая природа. Демоническое обаяние Николая Всеволодовича, под которое попадают многие герои романа, оказывается лишь внешней оболочкой, скрывающей за собой душевную пустоту и омертвелость. Демонизм Ставрогина выстраивается Достоевским от обратного: он антиномичен не только романтическому демонизму, но и сократовскому даймонию: Сократ своего демона слышит, а Ставрогин — видит («я теперь всё вижу привидения» — 10, 230), сократовский даймоний предостерегает от нежелательных поступков, а бесенок Ставрогина подталкивает его к преступным действиям («Один бесенок предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебядкина и Марью Тимофеевну» — 10, 230), даймоний всегда остается невидимым изъяви-телем божественной воли, а бесенок материализуется в лице Федьки Каторжника и диктует свою волю. Журнальный вариант содержит больше подробностей этой сцены: ссылаясь на бредовое состояние, в котором он пребывал из-за болезни, Ставрогин описывает Даше очередное посещение беса, и описание это предельно реалистично и психологично12.
В дальнейшем Достоевский продолжит разработку зримого, материального, реалистического образа демона / беса в виде черта, являющегося Ивану Карамазову. Отметим смещение лексикологических акцентов в развиваемой демонической теме: к Ивану Карамазову является не демон / сатана / дьявол / бес, а черт. Семантическое наполнение лексемы «черт» отличается ярким фольклорно-мифологическим характером: «…у всех славянских народов чертом называется злой дух, единственная цель которого — повсеместное и намеренное причинение неприятностей человеку» [Ухова: 130]. Он соединяет в себе черты языческого злого духа и христианского дьявола. Если слова «сатана», «демон», «дьявол», «бес» свойственны больше литературной, письменной традиции, то слово «черт» прочно укоренилось в традиции устной. Фольклорный генезис этого слова актуализируется, например, в пословично-поговорочных формах.
В главе «У Тихона», исключенной из журнальной и последующих редакций, Ставрогин упоминает о своих видениях («вижу так, как вас» —11, 9), на что Тихон заключает: «Беси существуют несомненно, но понимание о них может быть весьма различное» (11, 9). Подтверждая существование бесов, Тихон следует святоотеческой традиции, рисующей постоянную угрозу человеческой душе со стороны злых демонов 13.
Возможность видеть и слышать беса и невозможность таким же образом видеть и слышать Бога трактуется героями как доказательство отсутствия Бога. Такой рациональный подход заводит в экзистенциальный тупик, ибо духовная сущность не может измеряться материалистически. Об этом писал, например, Исаак Сирин: «А если скажешь, что невозможно быть видиму демону или Ангелу, если не изменятся они, не примут на себя видимого образа, то сие будет значить, что видит уже не душа, а тело»14.
Провоцируя Тихона, Ставрогин задает ему софистический по своей природе вопрос: «А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» (11, 10). К удивлению Ставрогина, тот подтверждает, что не только возможно, — это происходит «сплошь и рядом». Тихон ставит диагноз не Ставрогину, а обществу, для которого христианские ценности стали внешними атрибутами, а не внутренними установками. Как утверждал Тихон Задонский, один из почитаемых Достоевским Отцов Церкви, послуживший прототипом романного Тихона: «Если не творишь дел, вере приличных, то вера твоя демонская, ибо “ и бесы веруют, и трепещут ”»15. Именно эта мысль православного святителя берется Достоевским за основу в создании образа Ставрогина. В первых черновых набросках к роману находим следующую запись:
« … Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с… подвигом. При этом неверие и мука — от веры. Подвиг осиливает, вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут» (11, 175).
То, что «бесы веруют и трепещут», иллюстрирует притча о гадаринском бесноватом: бесы обращаются к Христу как к сыну Божию и повинуются его слову. Однако Достоевский «обрезает» притчу, используя в качестве эпиграфа ее развязку (вселение бесов в свиней) и кульминацию (исцеление бесноватого). Оставляя за рамками эпиграфа «историю болезни» человека, в которого вселились бесы, диалог Христа и бесов (ставшее крылатым «Имя нам легион»), реакцию гадаринцев на произошедшее в их земле чудо, Достоевский представляет само исцеление.
Тихон развенчивает романтический демонизм Ставрогина, духовная пустота и равнодушие которого являются следствием его эгоцентричности, почти маниакальной сосредоточенности на себе. По наблюдению С. Н. Сморжко, «Достоевский указывает на значительный эсхатологический признак: в равнодушии нет ни атеизма, ни веры, нет веры в Бога, но остается уверенность в том, что есть дьявол. Ставрогин пред- стает “человеком конца”, сумевшим создать Апокалипсис для самого себя. Суть этого Апокалипсиса в том, что Бог исчез, но мир не утратил свою метафизичность, став призрачным пространством, управляемым дьяволом» [Сморжко]. Исчезновение Бога и духовная пустота стали возможны, так как в Ставрогине нет духовного стержня, нравственного ориентира. Нет своего даймония / гения. Зато есть бес, которым он одержим. И эта одержимость приводит его к гибели духовной и физической. И не его одного. Согласимся с Ю. Ф. Карякиным, утверждающим: «Бесы у Достоевского — это не социальнополитическая категория, равно как и не религиозно-мистическое понятие, — нет, это художественный образ, образ духовной смуты, означающий сбив и утрату нравственных ориентиров в мире, образ вражды к совести-культуре-жизни, образ смертельно опасной духовно-нравственной эпидемии» [Карякин: 248]. Недаром тема беснования как духовной болезни дважды иллюстрируется евангельским текстом: притча о гадаринском бесноватом становится сначала эпиграфом, а затем кульминационно повторяется в конце произведения, знаменуя духовное прозрение Степана Трофимовича, в уста которого Достоевский вкладывает сущностное объяснение событий, описанных в романе.
Так как вселение беса в человека считалось причиной его душевной болезни, в русском языке лексема «бесноватый» получила следующие смысловые вариации, зафиксированные в словаре В. Даля: «сумасшедший, взбесившийся, потерявший рассудок и сознание и обратившийся в злобного зверя. | Одержимый водобоязнию, смертельною болезнию, где человек или животное бесятся. | Запальчивый, вспыльчивый; неистово горячий. | Отважный, дерзкий, чрез меру решительный. | Исступленно резвый»16. Беснование, внешне проявляющееся в потере рассудка, лишает человеческого облика, пробуждает звериное начало, ведет к неминуемой гибели, подобно стаду свиней из евангельской притчи, сбросившемуся в бездну.
Платон в диалоге «Государство» для обозначения этого состояния использует глагол μαίνομαι, который, согласно словарю И. Х. Дворецкого, имеет значения «быть в исступлении, бесноваться, бушевать, буйствовать, неистовствовать, свиреп- ствовать»17. К этому глаголу восходит существительное μανία – «сумасшествие, душевная болезнь, безумие». В «Государстве» Платон указывает на безумие как на причину желания совершать плохие и несправедливые поступки: οὐδ᾽ ἂν ἑνί ποτε συνθέσθαι τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι: μαίνεσθαι γὰρ ἄν — «тот не будет ни с кем входить в договоры касательно делания и испытывания несправедливости: разве он с ума сойдет»18 (II, 359b). Стремление к несправедливости разрушает связь между человеком и Богом: οὐδείς, ἔφη, τῶν ἀνοήτων καὶ μαινομένων θεοφιλής — «между друзьями Бога, сказал он, нет безумных и сумасшедших» (II, 382e). Как указывает А. Ф. Лосев, «“бешенство” рассматривается в одной плоскости зла наряду с “низостью” и “дерзостью”» [Лосев, 2000: 558].
Греческий корень μανία в русском языке присутствует в словах «мания», «маньяк», обозначающих психическое расстройство, одержимость определенной идеей. В романе бал у губернатора, кульминационно вскрывший бесовскую сущность многих героев, являет подобного рода навязчивое состояние в лице «третьего лектора», получившего прямую характеристику маньяк . Сцена его выступления демонстрирует, с какой быстротой бесовство может распространяться на окружающих людей:
«Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисман. Аплодировала уже чуть не половина залы; увлекались невиннейшие: бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?» (10, 374).
Духовное заражение приобретает массовый характер. «Имя нам легион», — отвечают Христу бесы, вселившиеся в гада-ринского бесноватого. Бал у губернатора показывает нам этот легион, вырвавшийся наружу и захвативший присутствующих.
Концепт бесовства, выведенный христианством, семантически близок понятиям μαίνομαι и μανία. Другой его составляющей является δαίμων / τὸ δαιμόνιον. Производный от этих существительных глагол δαιμονίζομαι в контексте Евангелий имеет значение «быть одержимым бесом, быть бесноватым»19. Однако первое значение данного глагола — «обожествлять-ся»20. По замечанию Г. Г. Ермиловой, «в “Бесах” происходит тотально-катастрофическая подмена Бога — кумиром, хри- стианства — язычеством» [Ермилова: 50]. Таково отношение к Ставрогину Петра Верховенского: «…вы красавец, гордый, как Бог…» (10, 326). Однако это обожествление является следствием обольщения: «…разрушительное действие оказывает на души Кириллова и Шатова Ставрогин, обольщая одного идеей божественности всякого индивидуального человека, а другого — божественности народа» [Булгаков: 15].
Один из немногих, не поддавшихся окончательно беснованию, — Степан Трофимович. Именно в его устах евангельский эпиграф становится ключом к прочтению романа. На пороге смерти Степан Трофимович «переживает момент са-моосознания, который позволяет ему в первый раз увидеть через евангельский отрывок собственное зло, оказавшее разрушительное влияние на доверенное ему молодое поколение (в частности, на Ставрогина, своего сына, Лизу)» [Сальвестро-ни: 116]. В начале романа герой сам себя характеризует: «Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек» (10, 33). Европейская этика и эстетика, взращенные античностью, для западника Верховенского обладают абсолютной ценностью. Верховенский-старший предстает вставшим на путь обращения язычником, уверовавшим в Бога через уразумение его существования. Как гадаринский бесноватый, Степан Трофимович избавился от терзавших его душу бесов и сел «у ног Иисусовых», готовый внимать Слову Учителя.
Рассмотрение евангельского эпиграфа к роману «Бесы» в ракурсе античной традиции позволяет вскрыть дополнительные смысловые пласты, обусловленные русским культурно-историческим кодом (см.: [Захаров: 13]). В концепте беснования, заявленном в названии романа и эпиграфе, помимо христианского значения, есть семантический слой, восходящий к философии Платона. Одержимость бесами, приравненная в христианстве к духовной болезни, этимологически восходит к античным понятиям δαιμονίζομαι и μαίνομαι. Неистовое, исступленное поведение является внешним проявлением испорченности духа, возникшей вследствие оторванности человека от Бога. Обращение к Богу, к Христу — единственный путь к духовному исцелению.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90037 («Достоевский и античность»).
-
1 Сошлемся на самохарактеристику Достоевского: «Шваховат я в философии (но не в любви к ней; в любви к ней я силен)» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 125. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома (нижним индексом — полутома) и страницы в круглых скобках.
-
2 Связь творчества Достоевского с философией Платона рассматривалась в следующих работах [Штейнберг], [Белов], [Бачинин], [Нейчев], [Аношкина].
-
3 Достоевский так описывает свой замысел в письме М. Н. Каткову от 8 (20) октября 1870 г.: «…весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо» (291, 142).
-
4 См.: Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: https://909.slovaronline.com/13632-%CE%B4%CE%B1%C E%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD (25.02.2020).
-
5 О. Фрейденберг, сопоставляя понятия «демон» и «бог» в античной мифологии, приходит к следующим выводам: «Впоследствии у греков появляется некоторый оттенок, с каким отличают термины “бог” и “демон”. Но первоначальной разницы тут нет; лингвистически, δαίμων древней, чем θεός» [Фрейденберг: 41].
-
6 А. Ф. Лосев в своем труде по античной мифологии («Античная мифология в ее историческом развитии») сопоставляет греческих демонов с римскими гениями , утверждая, что эти понятия — «обобщение внезапно появившегося в сознании человека представления об анимистическом существе» [Лосев, 1957: 68]. Называя греческого «демона» полной аналогией римскому «гению», Лосев указывает и на их отличие: «…слово “гений” значит “породитель”. Этим названием обозначалось в людях (и в вещах) их жизнеустремление, их волевая направленность, что, между прочим, заметно отличает римского гения от греческого демона, трактовавшегося у греков гораздо более объективистски» [Лосев, 1957: 59].
-
7 Это единственный случай употребления слова δαίμων в Священном Писании.
-
8 «Все бесы» — вставка в перевод. В древнегреческом оригинале подлежащее в этом предложении отсутствует: καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες (и попросили его, говоря).
-
9 В период работы над романами «Идиот» и «Бесы» Достоевский испытывал определенный интерес к древнегреческому языку, выразившийся в смысловом обыгрывании слов греческого происхождения [Балонов].
-
10 Подробно о трактовках даймония Сократа см.: [Кессиди: 108–110].
-
11 Лосев А. Ф., Иванов В. Вс. Демон // Мифы народов мира: энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1987. Т. 1: А–К. С. 366–367.
-
12 «— Я опять его видѣлъ, проговорилъ Ставрогинъ почти шепотомъ <…> Сначала здѣсь въ углу, вотъ тут у самаго шкафа, а потомъ онъ сидѣлъ все рядомъ со мной, всю ночь, до и послѣ моего выхода изъ дому <…> Вчера онъ былъ глупъ и дерзокъ. Это тупой семинаристъ, самодовольство шестидесятыхъ годовъ, лакейство мысли, лакейство среды, души, развитiя, съ полнымъ убѣжденiемъ въ непобѣдимости своей красоты… ничего не могло быть гаже. Я злился что мой собственный бѣсъ могъ явиться въ такой дрянной маскѣ <…>
— <…> Вы такъ говорите какъ онъ въ самомъ дѣлѣ есть. Боже сохрани васъ отъ этого! <…>
— О, нѣтъ, я въ него не вѣрю, успокойтесь, улыбнулся онъ. — Пока еще не вѣрю. Я знаю что это я самъ въ разныхъ видахъ, двоюсь и говорю самъ съ собой. Но все-таки онъ очень злится; ему ужасно хочется быть самостоятельнымъ бѣсомъ и чтобъ я въ него увѣровалъ въ самомъ дѣлѣ…» (Русский вестник. Т. 95. 1871, сентябрь. С. 142–144).
-
13 Ср., например, у Иустина Философа: «…так называемые демоны о том только и стараются, чтобы отвести людей от Бога Творца и Его Перворожденного Христа Бога, и тех, которые не могут возвыситься от земли, они пригвоздили и пригвождают к земным и рукотворным вещам, а тех, которые стремятся к созерцанию Божественного, незаметно совращают, и если они не имеют здравого рассудка и не ведут чистой и бесстрастной жизни, — ввергают их в нечестие» (Иустин Философ. I-ая Апология, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому [Электронный ресурс]. URL: http://www.odinblago.ru/ pamatniki_3/3 (25.02.2020)).
-
14 Исаак Сирин. Слова подвижнические. М.: Православное изд-во, 1993 (репринт. переизд.: Сергиев Посад, 1911). С. 69.
-
15 Тихон Задонский. Об истинном христианстве. Книга 2 [Электронный ресурс]. URL: http://golden-ship.ru/knigi/3/tihon_zadonsk_OIH2.htm (25.02.2020).
-
16 Даль В. И. Бес // Даль. В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. [Электронный ресурс]. URL: https://www.slovardalja.net/word . php?wordid=1553 (22.02.2020).
-
17 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://909.slovaronline.com/38484-%CE%BC%CE%B1 %CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9 (25.02.2020).
-
18 Здесь и далее приводится перевод В. Н. Карпова: Сочинения Платона: в 6 т. / пер. В. Н. Карпова. СПб.: Типография духовного журнала «Странник», 1863‒1879.
-
19 Ньюман Баркли М. Греческо-русский словарь Нового Завета. Российское Библейское общество, 2012. 239 с. С. 52.
-
20 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://909.slovaronline.com/13625-%CE%B4%CE%B1% CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE% BC%CE%B1%CE%B9 (25.02.2020).
Список литературы Семантика евангельского эпиграфа к роману "Бесы" Ф. М. Достоевского
- Аношкина В. Н., Касаткин Н. В. ПЛАТОН и ДОСТОЕВСКИЙ // Язык и текст. — 2017. — Т. 4. — № 4. — С. 12-29. DOI: 10.17759/langt.2017040402
- Балонов Ф. Эллинская «рулетка» Достоевского // Ф. М. Достоевский: сб. ст. Вологодская областная универсальная научная библиотека [Электронный ресурс]. — URL: https://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/ evs/kii/dostojevskii_f/sbor_stat/index.htm (25.01.2020).
- Бачинин В. А. Платон и Достоевский: метафизика экзистенциального самоопределения // Материалы и исследования по истории платонизма: межвуз. сб. / под ред. А. В. Цыбы. — СПб., 2003. — Вып. 5. — С. 407-422.
- Белов С. В. Достоевский и Платон // Проблемы изучения культурного наследия: [сб. ст.] / отв. ред. Г. В. Степанов. — М.: Наука, 1985. — С. 267-272.
- Булгаков С. Н. Русская трагедия. О «Бесах» Ф. М. Достоевского в связи с инсценировкой романа в Московском Художественном театре // Русская мысль. — М., 1914. — Кн. IV. — С. 1-26.
- Булгакова Н. О., Седельникова О. В. Концептосфера романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: к определению базового концепта и его функции в поэтике романа // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2018. — № 54. — С. 125-146.
- Ермилова Г. Г. Событие падения в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература: исследования и материалы. — Иваново: Иван. гос. ун-т, 1998. — С. 39-57.
- Жилякова Э. М. Демонические герои // Достоевский: Эстетика и поэтика (справочник) [Электронный ресурс]. — URL: https://fedordostoevsky. ru/research/aesthetics-poetics/072/ (25.01.2020).
- Захаров В. Н. Снова бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. — Т. 9. — С. 635-658.
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. — 2020. — Т. 18. — № 3. — С. 7-19 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089. pdf (25.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Ильин В. Н. Достоевский и Бердяев // Ильин В. Н. Эссе о русской культуре. — СПб.: Акрополь. — 1997. — С. 427-439.
- Карпов В. Н. Апология Сократа. Введение // Сочинения Платона: в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: Тип. духовн. журнала «Странник», 1863. — Т. 1. — С. 385-403.
- Карякин Ю. Ф. Достоевский и Апокалипсис / [сост. И. Н. Зорина, науч. ред. К. А. Степанян]. — М.: Фолио, 2009. — 701 с.
- Касаткина Т. А. Достоевский как философ и богослов: художественный способ высказывания — М.: Водолей, 2019. — 336 с.
- Кессиди Ф. Х. Сократ. — М.: Мысль, 1988. — 220 с.
- Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. — М.: Учпедгиз, 1957. — 620 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики (в 8 томах). — М.: ООО «Издательство ACT»; Харьков: Фолио, 2000. — Т. 2. Софисты. Сократ. Платон. — 846 с.
- Мочульский К. Достоевский: жизнь и творчество. — Париж: YMCA-Press, 1980. — 563 с.
- Нейчев Н. М. Функция идей Платона в «Войне и мире» и «Братьях Карамазовых» // Дергачевские чтения — 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Проблема жанровых номинаций: материалы IX Междунар. науч. конф. — Екатеринбург, 2009. — Т. 1. — С. 252-266.
- Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. — СПб.: Академический проект, 2001. — 187 с.
- Сараскина Л. Федор Достоевский. Одоление демонов. — М.: Согласие, 1996. — 462 с.
- Сморжко С. Н. Художественная эсхатология в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Дидактика художественного текста: сб. ст. / под ред. А. В. Татаринова. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2007 [Электронный ресурс]. — URL: https://textarchive. ru/c-2103035-p5.html (25.01.2020).
- Туровцев Т. А. Феномен сократовского даймония // Начало. — 2014. — № 30 [Электронный ресурс]. — URL: https://slovo-bogoslova.ru/nachalo/ fenomen-sokratovskogo-daymoniya/#_ftn25 (25.01.2020).
- Ухова И. В. Черт в суеверных представлениях восточных славян // Славянский сборник: материалы XII Всероссийских (с международным участием) члавянских чтений «Духовные ценности и нравственный опыт русской цивилизации в контексте третьего тысячелетия». — 2016. — С. 130-137.
- Филин Д. А. Личность Сократа в святоотеческой традиции // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2014. — № 26. — С. 180-185.
- Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. — М.: «Восточная литература» РАН, 1998. — 800 с.
- Штейнберг А. З. Система свободы Ф. М. Достоевского. — Берлин: Скифы, 1923. — 144 с.