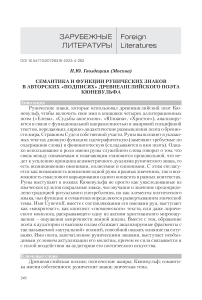Семантика и функции рунических знаков в авторских «подписях» древнеанглийского поэта Кюневульфа
Автор: Гвоздецкая Н.Ю.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рунические знаки, которые использовал древнеанглийский поэт Кюневульф, чтобы включить свое имя в концовки четырех аллитерационных поэм («Елена», «Судьбы апостолов», «Юлиана», «Христос»), анализируются в связи с функциональной направленностью и жанровой спецификой текстов, передающих лирико-дидактические размышления поэта о бренности мира, Страшном Суде и собственной участи. Руны выполняют в указанных текстах двоякую функцию: идеографическую (заменяют требуемые по содержанию слова) и фонематическую (складываются в имя поэта). Однако использование в роли имени руны служебного слова говорит о том, что связь между означаемым и означающим становится произвольной, что ведет к усилению принципа асимметричного дуализма рунического знака, то есть возникновению омонимии, полисемии и синонимии. С этим согласуется как возможность появления одной руны в разных значениях, так и возможность смыслового варьирования одного концепта в разных контекстах. Руны выступают в поэмах Кюневульфа не просто как унаследованные из языческих культов сакральные знаки, чье звучание и значение предопределено традицией ритуального употребления, но как элементы поэтического языка, чьи функции и семантика определяются развертыванием эпической темы. Имя Cynewulf, вместе с составляющими его именами рун, выступает как «микротекст», как конспект «гномического» текста, или даже лирического монолога, раскрывающего одну из аксиом христианского мироощущения - ощущения непрочности земной жизни. Вместе с тем, обращение поэта к аудитории и высшим силам сближает анализируемые фрагменты с так называемой «актуальной» поэзией, способной оказать влияние на ситуацию. Имя поэта, запечатленное руническими знаками, выступает необходимым условием актуализации его молитвы, причем ее сила связывается и с силой воздействия на аудиторию его поэтического искусства.
Древнеанглийская поэзия, поэтические жанры, кюневульф, семантика имени собственного, рунические знаки, эпическая тема
Короткий адрес: https://sciup.org/149144074
IDR: 149144074 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-262
Текст научной статьи Семантика и функции рунических знаков в авторских «подписях» древнеанглийского поэта Кюневульфа
Концовки четырех аллитерационных поэм, написанных на древнеанглийском языке латинским письмом («Елена», «Судьбы апостолов», «Юлиана», вторая часть поэмы «Христос»), включают некую последовательность рунических знаков, которые складываются в имя Кюневульф (CYNEWULF). Это имя носили в древней Англии и короли, и епископы, но идентифицировать личность автора, запечатлевшего таким своеобразным способом свое имя в поэмах, до сих пор не удалось. На основании лингвистических данных эти поэмы относят к рубежу VIII–IX вв., а со- хранились они в рукописях конца X в. Значительно больший интерес, чем проблема авторства, представляет вопрос о том, почему и на каких основаниях в христианской литературе могли использоваться элементы рунического ряда, первоначально связанные с языческими верованиями.
Включение в древнеанглийскую письменность, основанную на латинском алфавите, инородных знаков часто объясняется исследователями как дань традиции: руническое письмо в целом могло сохраняться из-за его большей декоративности по сравнению с латинским письмом, или как народная ему альтернатива, или как престижный символ памяти о предках, или как что-то иное [Guimon 2021]. Нельзя, однако, забывать о том, что рунические знаки, будучи изначально связываемыми со сверхъестественной силой, «как бы постоянно скрывают в себе силу слова» [Смирницкий 2001, 239]. Каковы бы ни были внешние причины использования рун в монастырской среде, мотивы, побудившие Кюневульфа включить в свои творения рунические знаки, следует, на наш взгляд, искать внутри самих текстов, в частности, учитывая их функциональную, жанровую специфику.
Прежде всего следует отметить, что «руническая подпись» Кюневуль-фа всегда включена в концовки поэм, не связанные напрямую с их основными сюжетными линиями. Каждая такая концовка представляет собой нечто вроде лирико-дидактического эпилога, в котором поэт рассуждает о бренности мира, о судьбах рода человеческого, а также о собственной участи. В каждой концовке упоминается Страшный Суд, предполагающий индивидуальную ответственность человека, чем, вероятно, отчасти обусловлено и введение имени собственного. Таким образом, при объяснении использования рун в текстах христианского содержания следует обращаться не только к функции рунических знаков в этих поэмах, но и к функциональной направленности самих поэтических текстов.
Руны выполняют в указанных текстах двоякую функцию: 1) идеографическую (заменяют требуемые по содержанию слова) и 2) фонематическую (складываются в имя поэта). Приведем отрывок из поэмы «Елена» (здесь и далее «Елена», «Судьбы апостолов» и «Юлиана» цит. по: [Old English Poetry…], «Христос» – по [Oxford Text Archive…] c указанием номеров поэтических строк; оригинальные начертания рунических знаков заменены на соответствующие их звучанию буквы английского алфавита):
A wæs sæcg oð ðæt / cnyssed cearwelmum, / C (cen) drusende, / þeah he in medohealle / maðmas þege, / æplede gold. / Y (yr) gnornode / N (nyd) gefera, / nearusorge dreah, / enge rune, / þær him E (eh) fore / milpaðas mæt, / modig þrægde / wirum gewlenced. / W (wyn) is geswiðrad, / gomen æfter gearum, / geogoð is gecyrred, / ald onmedla. / U (ur) wæs geara / geogoðhades glæm. / Nu synt geardagas / æfter fyrstmearce / forð gewitene, / lifwynne geliden, / swa L (lagu) toglideð, / flodas gefysde. / F (feoh) æghwam bið / læne under lyfte (Elene, 1256b–1270a).
«Всегда был герой прежде / побиваем бурями напастей, / [пребывал он как] факел тлеющий, / хоть в зале медовом / получал сокро- вища, / витое золото. / Лук [воин, человек] скорбел, / бед попутчик, / давила его печаль, / мысли тяжкие, / когда ему конь / тропами мили мерил, / спешил отважный, / покрытый доспехами. / Радость меркнет, / веселье с годами, / юность проходит, / прежняя слава. / Нашим был некогда / юности блеск, / [но] былые дни / в час урочный / прочь отошли, / радость жизни исчезла, / как утекают воды, / потоки быстрые. / Богатство для всякого / скоротечно под небесами» (здесь и далее русский перевод принадлежит автору статьи).
Однако и функции рун в указанных поэмах вызывают ряд вопросов. В «Елене» и «Юлиане» последовательность знаков совпадает с последовательностью фонем в имени Cynewulf, но в поэме «Христос» последние два знака меняются местами, в поэме же «Судьбы апостолов» последовательность знаков полностью нарушена (F-U-W-L-C-Y-N), затемнена их фонематическая функция (имя плохо поддается прочтению). А в поэмах «Христос» и «Судьбы апостолов» опущена руна E (Cynwulf вместо Cynewulf). Едва ли можно списать это лишь на редукцию безударных слогов, ибо руны, по-видимому, изначально не направлены на то, чтобы отображать фонетическую вариативность живой речи. Не так просто обстоит дело и с идеографической функцией рун у Кюневульфа (имеются в виду названия рун, соответствующие отдельным древнеанглийским словам). Прежде всего, об ее ослаблении говорит то, что в поэме «Юлиана» рунические знаки использованы исключительно как эквиваленты фонем, из которых складываются слова: С+У+N (cyn «род человеческий»), E+W+U (eowu «овцы; паства»), L+F (lif «жизнь»). В последнем случае рунические эквиваленты согласных фонем, вследствие пропуска гласного, служат лишь намеком на требуемое слово. Отметим также, что фонематическая и идеографическая функции рун могут вступать в противоречие: в поэме «Юлиана» прочтение трех составляющих краткую поэтическую строку знаков как целого слова (cyn «род») нарушает ритм аллитерационного стиха, а «пословное» их прочтение (cen «факел», yr «лук (оружие)» и nyd «нужда») дает бессмыслицу, ср. Geomor hweorfeð / C Y ond N. / Cyning biþ reþe (Juliana, 703b–704) [Смирницкая 2021, 311].
Все это, как представляется, говорит о расшатывании отношений между означаемым и означающим рунического знака в эпоху, когда знак теряет непосредственную связь с ритуалом. Особенно показательно появление в качестве имени руны служебного слова: в трех из четырех поэм Кюневульфа руна U интерпретируется как местоимение ur(e) «наш», ибо ее традиционное наименование ur «бизон» не подходит по смыслу контекста. Разумеется, изучая историю рунического ряда, исследователи отмечают возможность замены, если имя руны обозначает предмет или понятие, не употребительное более в данном сообществе. В качестве примера приводят смену имени руны U с «бизон» (предполагаемое древнейшее значение при бытовании руны на континенте) на «окалину» или «морось» в Скандинавии [Page 1999, 67].
Однако появление в роли имени руны служебного слова, говорит, на наш взгляд, о чем-то ином, а именно, что связь между означаемым и означающим становится для руны произвольной, что ведет к усилению принципа асимметричного дуализма языкового знака, то есть возникновению омонимии и полисемии. С этим согласуется: (1) возможность появления одного рунического знака в совершенно разных значениях (причем далеко не всегда встречающихся за пределами текстов Кюневульфа), (2) возможность смыслового варьирования одного концепта в разных контекстах. Так, первая руна в имени Кюневульфа C может быть понята как cen «факел» в поэме «Елена» и cene/cen «стремительный, отважный» как эпитет воина-героя (в переносном смысле – человека) в поэмах «Христос» и «Судьбы апостолов». При этом интерпретация соответствующей руны как «факела» в «Елене» не отменяет и возможности двух других ее интерпретаций в том же месте поэмы – cyn «род (человеческий)» и cene «отважный», поскольку cen drusende «факел гаснущий» служит метафорическим обозначением человека [Cynewulf’s Elene 1996, 72]. Далее, руна Y допускает в «Елене»: (1) толкование yr как «лук (оружие)» или «рог», реконструируемое на основе древнеанглийской «Рунической поэмы» [Page 1999, 75] (у Кюневульфа это метонимическое наименование воина или вообще человека), (2) толкование yfel («зло, несчастье»). В последнем случае трактовка зависит от интерпретации предиката gnornode как переходного или непереходного глагола: «оплакивал (несчастья)» или «человек скорбел». В «Судьбах апостолов» название этой руны (yfel) может быть понято в смысле «несчастливый» или «недостойный».
Принцип асимметричного дуализма, вытекающий из произвольной связи означаемого и означающего, предполагает наличие не только омонимии и многозначности (как в предыдущих примерах), но и синонимии. Действительно, в анализируемых текстах Кюневульфа можно отметить руны с близкими значениями: Y (yfel «зло») и N (nyd «нужда») как наименования «беды», с одной стороны; W (wynn «радость») и F (feoh «богатство») как наименования «блага», с другой. Очевидно, однако, и то, что речь здесь идет не просто о близости указанных концептов, но об их сближении в рамках поэтической речи, в данном случае – в рамках позднеантичного топоса «бренности мира», который в текстах Кюневульфа выступает эквивалентом героико-эпической темы – в функциональном, но иногда и в содержательном плане, что особенно заметно в «Елене», где упомянуты атрибуты мира героического, с его «медовым залом» и «сокровищами» (о сближении различных по значению слов в пределах эпической темы пира см.: [Смирницкая 2005, 153–168]).
Семантическое сближение в рамках единой темы возможно и для имен, на первый взгляд, не столь близких в семантическом плане, как предыдущие. Так, все вышеуказанные имена руны С – cen «факел», cen(e) «отважный», cyn «род» – синонимизируются как обозначение человека и человечества именно в контексте темы бренности мира и Страшного Суда, ср.:
A wæs sæcg oð ðæt / cnyssed cearwelmum, / C (cen) drusende, / þeah he in medohealle / maðmas þege (Elene, 1256b–1258) – «Всегда был герой прежде / побиваем бурями напастей, / [пребывал он как] факел тлеющий, / хоть в зале медовом / получал сокровища» (эпическая вариация слова cen со словом sæcg (фонетический вариант secg) в данном тексте допускает и толкование «отважный»);
Þonne С (cen) ond Y (yfel?) / cræftes neotaþ / nihtes nearowe, / on him N (nyd) ligeð / cyninges þeodom (The Fates of the Apostles, 103b–105b) – «Тут и отважный, и жалкий [достойный и недостойный] / возжаждет помощи / в ночи гнетущей, / на него возляжет нужда / послужить конунгу»;
Þonne C (cene) cwacað, / gehyreð cyning mæðlan, / rodera ryhtend, / sprecan reþe word (Christ, 797–798) – «Тут затрепещет отважный, / заслышав глас конунга, / небес владыки / гневное слово» (здесь эпитет героя, по-видимому, теряет свои «героические» коннотации и становится просто наименованием человека, как и его синоним modig в Juliana 718a, отсылающий к аудитории Кюневульфа, см. пример ниже);
Geomor hweorfeð / C Y ond N. / Cyning biþ reþe, / sigora syllend (Juliana, 703b–705a) – «Скорбно уходит род [человеческий]. / Конунг разгневан, / побед податель».
Таким образом, руны выступают в поэмах Кюневульфа не как унаследованные из языческих культов сакральные знаки, чье звучание и значение предопределено традицией ритуального употребления, но как элементы поэтического языка, которые обретают смысл в рамках эпической темы. Вместе с тем, эпическая тема не только предоставляет поэту некую свободу в семантизации рунических знаков, но и ограничивает ее. Так, возможность семантизации руны U через местоимение ur «наш» обеспечивается его близостью мотиву «владения–богатства». Руна же E (eh «конь») неслучайно оказывается уместной в имени Кюневульфа именно там, где бренность мира противопоставляется героико-эпическому мировосприятию с его радостями пиров и конных скачек («Елена»). В концовках двух других поэм («Христос» и «Судьбы апостолов»), где таковое противопоставление отсутствует, нет места и коню как атрибуту дружинной жизни. В «Юлиане» же, напротив, та же руна, на правах буквы, включается в обозначение «овец, то есть паствы» (руны E, W, U составляют слово ewu, вариант eowe).
Итак, посредством рунической «подписи» Кюневульф не просто увековечивает свое имя, «записывая» его как набор фонем, но представляет его как символ бренности человеческой жизни. Составляющие «подпись» рунические знаки используются для создания цепи ассоциаций, которые в совокупности составляют эпическую тему. Эта «ассоциативная» роль знаков в имени делает не столь важной последовательность их появления в тексте. Само же имя выступает как свернутое высказывание, аналог эпической темы, «микротекст», что подтверждается включением имени в однотипные контексты во всех четырех поэмах.
В сущности, повторяющийся набор концептов, представленный рунами в имени поэта, выступает как некий конспект «гномического» текста, раскрывая одну из аксиом позднеантичного (в том числе христианского) мироощущения – картину непрочности земной жизни: человек претерпевает разного рода беды и скорби; радости и богатства лишь временно принадлежат нам и утекают, словно вода.
Вместе с тем, связь с темой Страшного Суда позволяет ввести в рассказ личностные ноты, хотя личность и рисуется в стереотипных формульных выражениях, создающих образ изгнанника, характерный для древнеанглийских героических элегий «Скиталец» и «Морестранник». В концовках всех своих поэм Кюневульф говорит о скорбной земной участи от первого лица, что превращает его рассказ в лирический монолог:
Þus ic frod ond fus, / þurh þæt fæcne hus, / wordcræft wæf / ond wundrum læs, / þragum þreodude / ond geþanc reodode, / nihtes nearwe (Elene, 1236– 1239a) – «Так я, старый и мудрый, [в путь] устремленный, / в этом хрупком доме [бренном теле?] / слова искусно сплетал / и чудесно собирал, / о временах размышлял, / мысли просеивал / в темнице ночи»;
Huru ic wene me /ond eac ondræde / dom ðy reþran, / ðonne eft cymeð / engla þeoden, / þe ic ne heold teala / þæt me hælend min / on bocum bibead (Christ, 789b–793a) – «Воистину, я ожидаю / и страшусь / строгого суда, / когда вновь вернется / Владыка ангелов, / ибо я не исполнил того, / что мне мой Спаситель / повелел в книгах»;
Sar eal gemon, / synna wunde, / þe ic siþ oþþe ær / geworhte in wor-ulde. / Þæt ic wopig sceal / tearum mænan. / Wæs an tid to læt / þæt ic yfeldæda / ær gescomede, / þenden gæst ond lic / geador siþedan / onsund on earde (Juliana, 709b–715a) – «Вспомню все раны, / раны грехов, / что я поздно иль рано / соделал в мире. / Буду вопить / и стенать со слезами. / Слишком поздно я / злых своих дел / устыдился, / пока дух мой и тело / пребывали совместно, / на земле неразлучно»;
Hu, ic freonda beþearf / liðra on lade, / þonne ic sceal langian ham; / eardwic uncuð, / ana gesece, / læt me on laste / lic, eorðan dæl, / wælreaf wunigean / weormum to hroðre (The Fates of the Apostles, 91b–95) – «Вот, я родичей лишен / милых в пути, / когда суждено мне домой [вернуться]; / в страну незнаемую / один устремляюсь, / за собой оставляю / тело, земную долю, / одежду тленную / червям на радость».
Однако для поэта важно, очевидно, противопоставить картине общего тления возможность иной участи. Все четыре фрагмента предполагают обращение с мольбой о помощи к тем священным лицам или предметам, о которых повествуют – к Христу Спасителю, святым апостолам и т.п. Посредником в этом обращении поэт избирает своего слушателя:
Nu ic þonne bidde / beorn se ðe lufige / þysses giddes begang / þæt he geomrum me / þone halgan heap / helpe bidde, / friðes ond fultomes (The Fates of the Apostles, 85–91a) – «Теперь я прошу / мужа, что любит / этой песни теченье, / чтоб он для меня, скорбящего, / у того святого отряда [апостолов] / помощи испросил, / мира и вспоможения»;
Nu ðu cunnon miht / hwa on þam wordum wæs / werum oncyðig. / Sie þæs gemyndig, / mann se ðe lufige / þisses galdres begang, / þæt he geoce me / ond frofre fricle (The Fates of the Apostles, 105b–109a) – «Теперь ты сможешь узнать, / кто в тех словах был / явлен людям. / Да не забудет / человек, что любит / этой песни [букв. заклинания] теченье, / оказать мне помощь / и утешение»;
Bidde ic monna gehwone / gumena cynnes, / þe þis gied wræce, / þæt he mec needful / bi noman minum / gemyne modig, / ond meotud bidde / þæt me heofona helm / helpe gefremme, / meahta waldend, / on þam mi-clan dæge, / fæder, frofre gæst (Juliana, 715b–724a) – «Молю я мужа того / из рода людского, / кто эту песню исполнит, / чтоб он меня непременно / по имени моему / запомнил, отважный, / и умолил бы Господа, / чтоб Хранитель небес, / оказал мне помощь, / могучий Владыка, / в тот великий день [Страшного Суда], / Отец, Святой Дух».
Прямое обращение поэта к своей аудитории и к высшим силам сближает анализируемые фрагменты с так называемой «актуальной» поэзией, способной оказать влияние на ситуацию, каковой была в Скандинавии поэзия скальдов (отзвуки «актуальной» поэзии в древнеанглийском «Гимне Кэдмона» выявлены в работе: [Смирницкая 2000, 298–303]). Характерна в этом плане синонимизация наименований «песни» и «заклинания» в приведенных выше формульных выражениях þysses giddes begang и þisses galdres begang.
Таким образом, имя поэта, запечатленное руническими знаками, выступает необходимым условием актуализации его молитвы, причем ее сила связывается, по-видимому, и с силой воздействия на аудиторию его поэтического искусства.
Список литературы Семантика и функции рунических знаков в авторских «подписях» древнеанглийского поэта Кюневульфа
- Смирницкая О.А. Два предания о первых поэтах: Кэдмон и Браги // Другие Средние века. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 297-317.
- Смирницкая О.А. Древнегерманская поэзия: Каноны и толкования. М.: Языки славянских культур, 2005. 176 с.
- Смирницкая О.А., при участии М.А. Волконской. История английского языка: учебник. М.: МАКС Пресс, 2021. 384 с.
- Смирницкий А.И. Вопрос о происхождении рун и о значении праскандинавских надписей как памятников языка // Атлантика. Записки по исторической поэтике. Вып. V. М.: Издательство Московского университета, 2001. С. 230-254.
- Cynewulf’s Elene / ed. by P.O.E. Gradon. Liverpool: Liverpool University Press, 1996. 124 p.
- Guimon T.V. Why did Anglo-Saxon ecclesiastics use runes? // Disablot. Сборник статей коллег и учеников к юбилею Е.А. Мельниковой / отв. ред. Т.В. Гимон. М.: Квадрига, 2021. С. 21-28.
- Old English Poetry in Facsimile. Restorative Edition / ed. by M. Foys. URL: https://oepoetryfacsimile.org/_(дата обращения: 01.07.2023).
- Oxford Text Archive. Anglo-Saxon Poetic Records. URL: https://ota.bodleian.ox.ac.uk/repository/xmlui/bitstream/handle/20.500.12024/3009/3009.html (дата обращения: 01.07.2023).
- Page R.I. An Introduction to English Runes. 2nd ed. Woodbridge: The Boydell Press, 1999. 255 p.