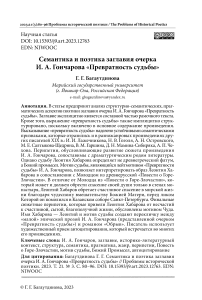Семантика и поэтика заглавия очерка И. А. Гончарова «Превратность судьбы»
Автор: Багаутдинова Г.Г.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринят анализ структурно-семантических, прагматических аспектов поэтики заглавия очерка И. А. Гончарова «Превратность судьбы». Заглавие эксплицитно является составной частью рамочного текста. Кроме того, выражение «превратность судьбы» также имплицитно структурировано, поскольку включено в основное содержание произведения. Высказывание «превратность судьбы» наделено устойчивыми семантическими признаками, которые отразились и в разножанровых произведениях других писателей XIX в.: И. И. Лажечникова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. М. Гаршина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Чехова. Перипетии, обусловливающие развитие сюжета произведения И. А. Гончарова, сопоставимы с драматургическим родом литературы. Однако судьбу Леонтия Хабарова определяет не древнегреческий фатум, а Божий промысел. Мотив судьбы, являющийся лейтмотивом «Превратности судьбы» И. А. Гончарова, позволяет интерпретировать образ Леонтия Хабарова в сопоставлении с Молодцом из древнерусской «Повести о Горе-Злочастии». В отличие от Молодца из «Повести о Горе-Злочастии», который может и должен обрести спасение своей души только в стенах монастыря, Леонтий Хабаров обретает счастливое спасение в мирской жизни благодаря чудесному вмешательству Божией Матери, перед ликом Которой он помолился в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Финальные сюжетные перипетии, которые привели Леонтия Хабарова от несчастий к счастливой, сытой, благополучной жизни, обусловлены мотивом Чуда. Имя Хабарова - Леонтий и мотив судьбы создают перекличку между «малой» эпической прозой И. А. Гончарова (представленной очерком «Превратностьь судьбы») и романом «Обрыв». Писатель использует художественный прием автоцитирования, который встречается во многих его произведениях.
И. а. гончаров, заглавие, историко-литературный контекст, структура, семантика, прагматика, жанр, перипетии, повесть о горе-злочастии, мотив судьбы, божий промысел, автоцитирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147241448
IDR: 147241448 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12763
Текст научной статьи Семантика и поэтика заглавия очерка И. А. Гончарова «Превратность судьбы»
« Превратность судьбы» И. А. Гончарова относится к позднему нероманному, так называемому очерковому беллетристическому творчеству писателя. Актуальность исследования подобных произведений И. А. Гончарова обусловлена необходимостью целостного понимания творческого пути писателя, представления о его жанровой системе, художественном методе, задачей рассмотреть вопросы поэтики.
В записи от 20 августа 1891 г., сделанной в летописи жизни и творчества И. А. Гончарова, составленной А. Д. Алексеевым, читаем: «…окончен очерк "Превратность судьбы"» [Алексеев: 306]. По сведениям, взятым из этого же источника, И. А. Гончаров 22 августа 1891 г. подарил Е. К. Трейгут «три рукописи cвоих последних произведений: "Май месяц в Петербурге", "Превратность судьбы" и "Уха"» [Алексеев: 306]. Эти произведения не были напечатаны при жизни писателя1.
А. М. Скабичевский саркастично и весьма невысоко оценил художественные достоинства «Превратности судьбы»: «Что же касается "Превратности судьбы", напечатанной въ январьскомъ сборникѣ "Нивы" нынѣшняго года, то она заслуживаетъ названiя "посмертнаго произведенiя" буквально въ такой же степени, какъ цитата изъ Миля, если-бы таковая была найдена въ бумагахъ Гончарова, записанная его рукою. Во всей этой "Превратности судьбы" только всего и есть Гончарова, что его почеркъ, а такъ какъ въ печати и почерка не сохранилось, то совсѣмъ уже ничѣмъ гончаровскимъ и не пахнетъ» [Скабичевский: 2].
Советское гончароведение также в целом достаточно равнодушно или нелицеприятно отнеслось к очерку «Превратность судьбы». А. Г. Цейтлин в монографии, посвященной творчеству И. А. Гончарова, уделил этому произведению одно предложение: «К ним принадлежат опубликованные им самим "Превратности судьбы" — довольно слабый рассказ о жизненных приключениях отставного штабс-ротмистра Хабарова» [Цейтлин: 299].
В XX–XXI вв. интерес к произведениям писателя, написанным в малых форма х, возрос (см.: [Андреева, Гулин, Ермолаева и др.],
[Kasack]). Внимание научного сообщества к очерку «Превратность судьбы» также усилилось: опубликованы статьи В. И. Мельника [Мельник, 2008а, b], Н. Л. Ермолаевой [Ермолаева], К. В. Смирнова [Смирнов].
Обозначу основные выводы исследователей. В. И. Мельник считает, что «логика» гончаровского текста «именно христианская» [Мельник, 2008а: 458]: «…перед нами вполне типичная христианская история, каких много находим в житиях святых, в сборниках христианских притч и рассказов» [Мельник, 2008а: 460]. Н. Л. Ермолаева, изучив очерк «Превратность судьбы» в контексте произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, пришла к выводу о том, что некоторые качества Хабарова («смирение», «глубокая вера в Бога», «демократизм и трудолюбие») сопоставимы с качествами праведников Н. С. Лескова [Ермолаева: 30], а «открытая религиозность, дидактическое начало, несомненно, сближают очерк Гончарова "Превратность судьбы" с современными ему народными рассказами» Л. Н. Толстого [Ермолаева: 32]. К. В. Смирнов высказывает суждение о том, что Леонтий Хабаров из всех главных романных героев И. А. Гончарова — «последний претендент на роль достойного героя» писателя [Смирнов: 68], так как никто из главных героев его романного мира «так и не достиг полного духовного очищения по разным причинам» [Смирнов: 68]. Исследователь считает, что «Гончаров показал путь от падения к возвышению, путь, который способен пройти каждый человек» [Смирнов: 70]. Таким образом, Н. Л. Ермолаева, В. И. Мельник, К. В. Смирнов так или иначе сходятся в своей интерпретации образа Леонтия Хабарова.
Пролить свет на некоторые научные загадки позднего творчества Гончарова, на наш взгляд, позволяет исследование рамочного текста, а именно заглавия произведения. По мнению С. Д. Кржижановского, «хронологический перечень заглавий, принадлежащих одному перу, большей частью показывает, в сущности, единое заглавие, данное лишь в разных возрастах своей жизни» [Кржижановский: 29].
Вслед за концепцией Ю. М. Лотмана, изложенной в статье «Семиотика культуры и понятие текста», заглавие будем считать одновременно самостоятельным текстом и подтекстом содержания очерка И. А. Гончарова «Превратность судьбы». В результате подобного соотношения возникают «сложные смысловые токи, порождающие н о в о е с о о б щ е н и е» [Лотман: 132].
-
1. Структура заглавия
-
2. Семантика заглавия
Заглавие «Превратность судьбы» не только является составным компонентом рамочной структуры очерка И. А. Гончарова, но и включено в основный текст — в заключительных абзацах V главы:
«Но перед отъездом он зашел в Казанский собор, долго молился и горячо благодарил за божественную помощь в претерпенных испытаниях и внезапную радость превратности судьбы»2.
Заглавие «Превратность судьбы» представляет собой непосредственное высказывание автора, а имплицитное текстовое высказывание ( радость превратности судьбы ) является своего рода цитатным повторением эксплицитного заглавия и выражает оценку Леонтия Хабарова при помощи несобственно-прямой речи автора. Двойной повтор высказывания «превратность судьбы» в начале и финале произведения образует своего рода риторическую фигуру кольца, а также семантически маркирует поворот сюжета от несчастья судьбы Леонтия Хабарова к счастью.
С точки зрения грамматической структуры заглавие «Превратность судьбы» представляет собой именное словосочетание. По составу является простым словосочетанием, состоящим из двух знаменательных слов — имен существительных, связанных друг с другом по типу управления. Главное слово «превратность» и зависимое слово «судьбы» представляют собой неодушевленные существительные, женского рода, единственного числа. По степени слитности компонентов словосочетание является синтаксически несвободным, представляющим собой устойчивое сочетание слов, образующее неразложимое синтаксическое единство.
В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля значение слова «превратность» находим в ряду значений слова
«превращать» (со значением «переворачивать, перевернуть, переворотить, перелицевать, выворотить»)3. Приведены производные слова « превратное счастье, судьба » в значении «превратный, измѣнный, непостоянный, перемѣнный, коловратный»4. Словосочетание «превратность судьбы», слова «счастье, изменчивость» находятся в данном семантическом ряду. Таким образом, выражение «превратность судьбы» означает неожиданную перемену в судьбе человека, или изменчивую судьбу.
В толковом словаре С. И. Ожегова выражение «превратность судьбы» встречается в словарной статье «Судьба»: «…течение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий <…>. Удары, превратности судьбы»5.
Выражение «превратность судьбы» встречается в произведениях современников И. А. Гончарова, разных по жанру, но, в отличие от очерка писателя, в них словосочетание «превратность судьбы» упоминается лишь имплицитно — в тексте. Как, например, в историческом романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835):
«Чтоб ему принадлежать, она готова идти к нему в услужение: ее любовь выдержит все превратности судьбы , все пытки; но выдержит ли это испытание его сердце?» 6 (Здесь и далее курсив мой. — Г. Б .).
В «Басурмане» (1838) И. И. Лажечникова читаем:
«— Поверишь ли, — сказал Аристотель, — что этот худой, с шафранными глазами, вот что привстал перед великим князем, царь казанский, Алегам? Царство его еще недавно было страшно для русских. Несколько месяцев тому назад полководец московский взял его в плен и посадил на его место другого царя. Полюбуйся здесь превратностями судьбы человеческой. Недавно повелевал с своего престола сильному народу, теперь едва имеет место, где приклонить голову»7.
В контексте произведений семантика выражения поясняется: речь идет о переменчивости судьбы (на коне или под конем).
В первом томе поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842) это выражение «сопровождает» образ Чичикова:
«Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклёкнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика…» 8 .
В данном контексте превратности судьбы предполагают жизненные испытания бедой.
В пьесе А. Н. Островского «Доходное место» (1856) выражение «превратности судьбы» произносит Юсов (действие 5, явление 3), отвечая на вопрос Вышневского, за что тот «погиб» — «обесчещен, разорен»:
« Вышневский. <…> Юсов! За что я погиб?
Юсов. Превратность … судьба-с .
Вышневский. Вздор, какая судьба! Сильные враги — вот причина! Вот что меня сгубило! Проклятие вам! Позавидовали моему благополучию!» 9 .
Смысловой акцент Юсов делает на слове «судьба», словно бы отсекая лексему «превратность». Вышневский, похватывая реплику Юсова, не верит в судьбу.
В прозаическом цикле «Помпадуры и помпадурши» (1874) М. Е. Салтыкова-Щедрина выражение «превратности судьбы» понимается ка к фантастическое изменение-превращение:
«Представьте себе, что все стояло на своем месте, как будто ничего и не случилось; как будто бы добрый наш старик не подвергнулся превратностям судеб , как будто бы в прошлую ночь не пророс сквозь него и не процвел совершенно новый и вовсе нами не жданный начальник!»10.
В рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова» (1882) В. М. Гаршина «превратности судьбы» представлены как жизненный опыт, трудные этапы жизненного пути:
«— Конечно, Владимир Михайлович, — говорил он мне, — я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков, так как Питер оказал на меня свое влияние. В Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы , то я не могу на них орать, например. Ему сорок лет, а мне двадцать третий. Хотя я в роте и ефрейтор»11.
В романе «Приваловские миллионы» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка автор-повествователь дает подробное толкование выражения «превратности судьбы», но полностью оно в тексте не воспроизводится:
«Карьера всякаго золотопромышленника полна превратностей и вне-зап ныхъ превращенiй , а судьба Василья Назарыча была особенно богата такими превращенiями . Громадные барыши и убытки чередовались между собой. Это перемѣнное счастье проходило красной нитью черезъ всю его жизнь и придавало ей особенно интересную окраску»12.
В рассказе «Пьяные» (1887) А. П. Чехова высказывание «превратность судьбы» произносится дважды разными персонажами:
«— Поди сюда! — сказал ему Фролов. — Объясняй нам следующий факт. Было время, когда вы, татары, владели нами и брали с нас дань, а теперь вы у русских в лакеях служите и халаты продаете. Чем объяснить такую перемену?
Мустафа поднял вверх брови и сказал тонким голосом, нараспев:
— Превратность судьбы !
Альмер поглядел на его серьезное лицо и покатился со смеха.
— Ну, дай ему рубль! — сказал Фролов. — Этой превратностью судьбы он капитал наживает. Только из-за этих двух слов его и держат тут» 13 .
В отличие от других произведений, выражение «превратность судьбы» в данном случае носит сниженно комический характер. Происходит сближение несопоставимых явлений: историческое падение некогда могущественного государства и бытовая жизнь одного из частных лиц объединяет понятие «превратность судьбы».
Даже небольшой контекст произведений позволяет утверждать, что, как правило, выражение «превратности судьбы» понимается персонажами как неожиданные перемены, несчастливые повороты в жизни человека, а также перемены от счастья к несчастью или от несчастья к счастью.
Семантика заглавия очерка И. А. Гончарова проясняется при обращении к сюжету, который тематически можно разделить на три части: 1. Счастливая служба офицера Хабарова в одной из местностей Царства Польского. 2. Тяготы, несчастья петербургской жизни отставного штабс-ротмистра Хабарова. 3. Счастливые перемены в жизни отставного штабс-ротмистра Хабарова, или «внезапная радость превратности судьбы» (489).
Внезапный поворот сюжета в очерке И. А. Гончарова от счастья к несчастью и от несчастья к счастью можно охарактеризовать как перипетии — сюжетный прием, типичный более всего для жанров драматургии, а именно — древнегреческой трагедии. Аристотель определяет перипетию как «перемену происходящего к противоположному, и притом, как мы говорим, по вероятности или необходимости» [Аристотель: 53]. Наряду с перипетиями подобный сюжет состоит из узнавания, страдания (страданий), в результате сопереживания которым зритель (читат ель) должен испытать катарсис.
Рассмотрим сюжетные перипетии, обусловливающие переход от счастья к несчастью и от несчастья к счастью в очерке И. А. Гончарова.
По мнению Н. Л. Ермолаевой, «на первый план в очерке выдвинута личность героя, которую можно охарактеризовать не иначе, как личность праведника» [Ермолаева: 30]. На наш взгляд, Хабаров далек от воплощения образа праведности в русской литературе. Он сдается перед жизненными трудностями — от окончательного падения его спасает Божья Воля. Сюжет не показывает нам, что могло бы стать с Хабаровым, если бы не чудесное вмешательство Богородицы в образе иконы Казанской Божией Матери в его судьбу.
По мнению Аристотеля, герой, который должен вызывать сострадание или страх, не должен быть ни хорошим, ни плохим: «А таков тот, кто, не отличаясь ни доблестью, ни справедливостью, подвергается несчастью не вследствие своей порочности и низости, а вследствие какой-нибудь ошибки, между тем как раньше он пользовался большой славой и счастьем…» [Аристотель: 55].
Леонтий Хабаров является достаточно предприимчивым человеком и живет сначала счастливо. Для того чтобы материально жить в достатке и не втянуться в долги, он начинает заниматься выездкой лошадей, а затем их перепродажей:
«…он купил за сто пятьдесят рублей, разумеется, ассигнациями, молодую лошадь, выездил ее отлично и сбыл в другой полк уже за тысячу рублей» (480–481).
Приобретательство, корыстолюбие, меркантильность соотносимы со стяжательством — одним из смертных грехов в православии14.
Сюжетные перипетии — сдвиг от счастья к несчастью — начинаются с того, что по воле великого князя Хабарова за хорошую службу перевели из провинции в Варшаву. Хабаров был не рад этой «милости», поскольку в провинции ему хватало жалованья, а в «столице царства <…> было все другое», но должен был «исполнить волю великого князя» (481). С момента переезда Хабарова в Варшаву начинаются страдания. То, как жил Хабаров в Варшаве, под робно не описано, но сказано, что жил трудно
(«…промаячил еще кое-как года два» — 481), то есть промаялся, страдал.
Настоящие трудности продолжились в Петербурге. Хабаров в процессе преодоления жизненных испытаний проходит различные периоды духовной жизни: сначала он не падает духом (482), затем «сильно затосковал » (483), то есть предался унынию — одному из смертных грехов в православии.
Рациональные сюжетные мотивировки невезенья Хабарова во время пребывания в Петербурге отсутствуют. Несмотря на то, что великий князь хорошо к нему отнесся и подписал документы об отставке, а также снабдил свидетельством за собственноручной подписью о том, что Хабаров «своею службою и поведением заслуживает полное одобрение и может исполнять все возлагаемые на него дела и поручения» (482), герой не смог найти работу на казенной службе.
После того как он наконец-то устроился управляющим, его уволил владелец дома. По словам Хабарова, хозяин его «уволил за исправность», отчего он «погрузился в уныние » (484). Если управляющий домом уволил его за честность, то уже купец — за «неисправность» (485), как говорит Хабаров квартирной хозяйке, или за доверчивость. Таким образом, складывается впечатление, что Хабаров страдает из-за добродетелей, которыми наделен.
Однако социальные мотивировки невезения Хабарова также присутствуют в сюжете очерка. Неоднократно автором подчеркивается, что в неудачах героя найти работу виноват его потертый вицмундир (возникает реминисценция, связанная с шинелью Акакия Акакиевича Башмачкина из повести «Шинель» Н. В. Гоголя):
«…в некоторых местах швейцары не допустили его даже до приемной, видя его потертый вицмундир, и грубо ему отказывали» (485). «"Видно в самом деле я обносился! — подумал Хабаров — и мой вицмундир не спасает меня от обид!"»15 (486).
История Хабарова усугубляется не только духом уныния, но и одним из смертных грехов — чревоугодием: он, «заработав небольшие деньги, предавался любимому занятию — пьянству» (486).
Название очерка «Превратность судьбы», а значит, и сюжетные перипетии произведения связаны с мотивом чуда, Божьим Промыслом. Чудесные изменения происходят в жизни Хабарова после того, как он «пробрался в Казанский собор и помолился там Божией Матери» (486). Кроме того, Хабаров совершает богоугодное дело, так как, сам того не сознавая, участвует в строительстве Храма Воскресения Христова на Крови в Санкт-Петербурге:
«…машинально стал смотреть, как на Екатерининском канале воротом тащили большой камень на пьедестал какого-то монумента. <…> Приказчик в синей сибирке вдруг пригласил его занять пустое место и вместе с другими тянуть канат» (486).
Наряду с Промыслом Божьим структура очерка Гончарова воплощает утопическую идею о добром царе-батюшке и плохих подданных, которая подчас существовала в народном сознании. Действие очерка начинается «в двадцатых годах нынешнего столетия» (480), во время царствования императора Александра I Павловича (скончался в 1825 г.), с которым, согласно сюжету, Леонтий Хабаров неожиданно встретился, и расчувствовавшийся император распорядился помочь определить его на хорошее место службы.
По наблюдениям К. В. Чистова, в народном сознании в связи с образом Александра I запечатлена другая легенда16. Образ Александра Павловича в произведении И. А. Гончарова вызывает также реминисценцию с образом Александра Павловича из рассказа Н. С. Лескова «Левша» (1881)17.
Семантика заглавия очерка Гончарова «Превратность судьбы» отражает не только злоключения главного героя Леонтия Хабарова, но и счастливые изменения, связанные с вмешательством в его жизнь Промысла Божьего. Момент узнавания в очерке возникает в связи с образом иконы — точнее, в сцене молитвы Леонтия Хабарова перед иконой Казанской Божией Матери. Именно после молитвы перед иконой начались счастливые изменения в судьбе Хабарова, что понимает и сам герой: он получает «место смотрителя работ при строящемся в Москве храме Спасителя в память изгнания французов» (489). Кульминацией в сюжете становится встреча с императором. Затем происходит узнавание Хабаровым чудодейственной силы молитвы — он вновь молится перед чудотворной иконой, но уже с благодарностью, и наступает счастливая развязка:
«Углицкий, от которого я слышал этот рассказ, был у него в гостях в его палатке, видел кругом прекрасную обстановку… и прочее, что только могло льстить избалованному вкусу» (489).
Один из аспектов, формирующих аксиологическую авторскую художественную картину произведения, — православный — позволяет прийти к выводу о том, что Господь не дал упасть Хабарову и нравственно поднял его, помогая преодолеть социальные тяготы: бедность, нищету, вместе с которыми ушли из его жизни смертные грехи уныния, чревоугодия.
Мотив судьбы как лейтмотив очерка Гончарова позволяет выявить реминисценцию не только с древнегреческой трагедией (но только структурно — в перипетиях, а не в интерпретации судьбы как фатума), но и с древнерусской литературой. В частности, возникают аналогии с «Повестью о Горе-Злочастии», уникальным памятником древнерусской литературы, написанным в стихотворной форме и дошедшем до нас в единственном списке XVII–XVIII вв.18
Подобно безымянному Молодцу из древнерусской повести, к Леонтию Хабарову прилепилось Горе в виде пьянства, бедности, неудачи, но существенным отличием является то, что мытарства Молодца начинаются в результате грехопадения, то есть он виноват в них сам, что и осознает:
«Язъ какъ принялся за питье за пьяное, ослушался язъ отца своего и матери, — благословение мнѣ от них миновалося;
Господь Богъ на меня разгнѣвался и на мою бѣдность великия многия скорби неисцѣлныя и печали неутѣшныя, скудость и недостатки и нищета послѣдняя»19.
В очерке рефлексия Леонтия Хабарова по поводу несчастий отсутствует. Кроме того, беды Молодца случились в результате ослушания родителей — нарушения их заветов, в основу которых были положены православные заповеди. Мотив блудного сына в очерке Гончарова возникает опосредованно: Леонтий Хабаров оступился не в результате нарушения одной из десяти православных заповедей («чти отца своего и мать»), как это случилось с Молодцом из «Повести о Горе-Злочастии». Он является брошенным чадом:
«Отец, кажется, забыл о нем. Он писал к нему раза два, но ответа не получил никакого, и стороной узнал, что старый Хабаров продал деревеньку и уехал в Москву, где и умер, не оставив сыну ничего. Матери своей он лишился давно» (481).
В отличие от Молодца из древнерусской повести, к Леонтию Хабарову не прилепилось Злочастие, поэтому для него стало возможным спасение вне стен монастыря. Для Молодца спасением явился только монастырь.
В очерке возникают авторские переклички (автоцитирова-ние)20: имя Леонтий (Козлов) встречается в романе «Обрыв». Функционально этот персонаж в какой-то мере также соотносится с образом Леонтия Хабарова. Он такой же несчастный герой: «по всей жизни его прошел <…> паралич»21 после того, как жена Ульяна сбежала с месье Шарлем в Париж. Однако существенная разница заключается в их жизненном пути. Кроме того, Леонтий Козлов — персонаж романного мира, в отличие от Леонтия Хабарова — персонажа «малой» эпической прозы. Среди авто ров, творчеств о которых чтит Леонтий Козлов, есть создатели
Т. 7. С. 211.
античных трагедий, героями которых всегда управляют рок и судьба. В «Обрыве» концепция судьбы Леонтия так же «опровергается настоящим, непридуманным течением жизни» [Багаутдинова: 144], тогда как жизненный путь Леонтия Хабарова определен Божественной Волей. Счастливые перипетии в его судьбе обусловлены чудесным вмешательством Божьей Матери.
Словосочетание «превратность судьбы», составившее заглавие очерка Гончарова, не только является рамочным текстом, но и повторяется в финальной главе произведения. Такой повтор образует своего рода риторическую фигуру кольца, а также семантически маркирует поворот сюжета от несчастья судьбы Леонтия Хабарова к счастью. Перипетии, обусловливающие развитие сюжета произведения Гончарова, сопоставимы с драматургическим родом литературы. Однако судьбу Леонтия Хабарова определяет не древнегреческий фатум, а Божий промысел, поэтому она предстает как милостивая.
Список литературы Семантика и поэтика заглавия очерка И. А. Гончарова «Превратность судьбы»
- Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова / под ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 368 с.
- Андреева В. Г., Гулин А. В., Ермолаева Н. Л. и др. Феномен эпического романа в русской литературе второй половины XIX века. Кострома: Костромской гос. ун-т, 2022. 512 с.
- Аристотель. Поэтика. Л.: Academia, 1927. 124 с.
- Багаутдинова Г. Г. Искусство и художник в романах И. А. Гончарова. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2018. 182 с.
- Гуськов С. Н. Сувениры путешествия // Гончаров И. А.: мат-лы Междунар. конф., посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск: Корпорация технологий передвижения, 2003. С. 291–301.
- Ермолаева Н. Л. Очерк И. А. Гончарова «Превратность судьбы» в литературном контексте // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009. № 1. С. 29–34 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2009/01/2009-01-07.pdf (01.04.2023).
- Кржижановский С. Д. Собр. соч.: в 5 т. / сост. и комм. В. Перельмутера. СПб.: Симпозиум, 2006. Т. 4: Статьи. Заметки. Размышления о литературе и театре. 848 с.
- Лотман Ю. М. Избр. ст.: в 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. 479 с.
- Мельник В. И. Гончаров и православие: духовный мир писателя. М.: Даръ, 2008. 543 с. (а)
- Мельник В. И. Последние новеллы И. А. Гончарова // Вестник славянских культур. 2008. № 1–2 (9). С. 171–182 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-sk.ru/assets/files/Melnik.pdf (01.04.2023). (b)
- Скабичевский А. М. Литературные хроники // Новости и биржевая газета. 1893. № 21. 21 января. С. 2.
- Смирнов К. В. Почему прослезился император Александр Павлович? (Анализ очерка И. А. Гончарова «Превратность судьбы») // Science of Europe. Philological Sciences. 2016. Т. 2. № 1 (1). С. 68–70.
- Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, ИМЛИ им. А. М. Горького, 1950. 488 с.
- Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 540 с.
- Энгельгардт Б. М. Предисловие // Гончаров И. А. Повести и очерки / ред., предисл. и примеч. Б. М. Энгельгардта. Л.: Гослитиздат, 1937. С. 3–8.
- Kasack W. Ein Meister auch der kleinen Form // Ivan Gončarov Erzählung. Ein Mai in Petersburg. Köln, Wien: Böhlau-Verlag, 1989. S. 71–77.