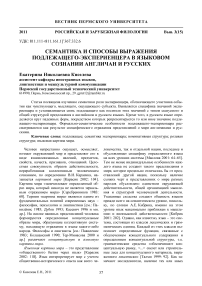Семантика и способы выражения подлежащего-экспериенцера в языковом сознании англичан и русских
Автор: Киселева Екатерина Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению семантики роли экспериенцера, обозначающего участника события как чувствующего, мыслящего, ощущающего субъекта. Выявляется специфика значений экспериенцера и устанавливается связь подлежащего как носителя этих значений с типом сказуемого и общей структурой предложения в английском и русском языках. Кроме того, в русском языке определяется круг падежных форм, посредством которых репрезентируется то или иное значение подлежащего-экспериенцера. Формально-семантические особенности подлежащего-экспериенцера рассматриваются как результат специфического отражения представлений о мире англичанами и русскими.
Подлежащее, семантика экспериенцера, номинативная структура, ролевая структура, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14729023
IDR: 14729023 | УДК: :
Текст научной статьи Семантика и способы выражения подлежащего-экспериенцера в языковом сознании англичан и русских
Человек непрестанно ощущает, осмысляет, познает окружающий мир и представляет его в виде взаимосвязанных явлений, предметов, свойств, качеств, признаков, отношений. Целостная совокупность образов действительности, переработанная коллективным человеческим сознанием, по определению В.И. Карасика, называется картиной мира [Карасик 2002: 104]. Картина мира «запечатлевает определенный образ мира, который никогда не является зеркальным отражением мира» [Серебренников 1983: 60]. Термин «картина мира» является одним из фундаментальных понятий современных наук – философии, психологии и лингвистики [см.: Па-вилёнис 1983; Дубов 1993; Касевич 1996 и мн. др.]. На основе наивных представлений человека формируются определенные концептуальные образы мира, образующие коллективную систему, находящую отражение в языке какого-либо народа. Философы и лингвисты [см.: Павиленис 1983; Колшанский 1990; Тер-Минасова 2000 и др.] различают концептуальную и языковую картины мира .
Языковая картина мира – это представление «общественного бытия через язык» [Карасик 2002: 118]. Язык интерпретирует мир с учетом общественно-исторического опыта как всего че- ловечества, так и отдельной нации, последнее и обусловливает специфику определенного языка на всех уровнях системы [Маслова 2001: 64–65]. Тем не менее индивидуальные особенности каждого языка не создают такого представления о мире, которое предельно отличалось бы от представлений другой нации, поскольку наличие схожих черт в представлениях о мире разных народов обусловлено единством окружающей действительности, общей организацией мышления и структурой человеческой деятельности. Указанные сходства создают общность языков прежде всего на семантическом уровне, поскольку, по словам А.Е. Кибрика, именно на этом уровне язык максимально приближен к мышлению и внеязыковой действительности [Кибрик 2001: 202]. Однако, как известно, язык – это система, состоящая из классов лексических и грамматических единиц. Каждый из этих классов выполняет определенные функции, связанные с обеспечением концептуального содержания и определением концептуальной структуры, т.е. грамматические средства «обеспечивают концептуальную рамку, <...> скелет или строительные леса для концептуального материала, выраженного лексически» [Талми 1999: 92]. Как замечают исследователи, наличие тех или иных грамматических явлений в языке обусловлено особенностями мировосприятия народа, т.е. «языки фиксируют в грамматике наиболее существенные концепты для культуры соответствующего народа либо значимо их игнорируют» [Карасик 2002: 208]. О существенной роли языковой формы в осмыслении мира человеком говорил еще В. Гумбольдт [см.: Гумбольдт 2000]. В статье мы остановимся на способах представления подлежащего как одной из составляющих концептуальной рамки языковой картины мира.
Центральной единицей языка, в которой осмысляются те или иные отношения между предметами и явлениями действительности, является предложение . Структура предложения на семантическом уровне отражает структуру той или иной внеязыковой ситуации, которая соотносится с некоторым событием , представленным в виде действия , процесса или состояния , и участников этого события [см.: Кибрик 2001]. Экст-ралингвистическая ситуация выражена в семантической структуре предложения посредством предиката, определяющего тип события, и актантов , служащих прототипами участников события; при этом значение предиката играет ведущую роль в определении всей семантической структуры предложения. На формальном уровне предикат представляет собой сказуемое, выраженное глаголом или глагольно-именным сочетанием. Актанты в семантической структуре обычно распределяются по номерам, при этом первый актант реализуется в формальной структуре как подлежащее, второй и третий – как дополнения.
В семантической структуре предложения та или иная функция участника внеязыковой ситуации подводится языковым сознанием под определенную семантическую роль, или глубинный падеж , под которым понимается «глубинное синтактико-семантическое отношение» актанта к предикату, основанное на обобщенном, типовом представлении функции участника той или иной ситуации [Филлмор 1981: 399–400]. Семантические роли представляют собой одну из базовых категорий, которая входит в состав «семантического представления», или «базисных семантических структур», «принципиальное устройство которых предполагается идентичным в языках» [Кибрик 2001: 202].
Рассмотрим одну из семантических ролей – роль экспериенцера. Экспериенцер – это тот участник ситуации, «чье умонастроение или умственные процессы подвергаются воздействию» [Чейф 2003: 168]: I was impressed – Я был впечатлен. В соответствии с концепцией У. Чейфа актант-экспериенцер может реализовываться в позиции подлежащего только в условиях события-состояния и события-процесса. Именно здесь наблюдается особое разнообразие способов его выражения, чем и обусловлено изучение подле-жащего-экспериенцера в указанной синтаксической позиции. В английском языке подлежащее-экспериенцер представлено в составе номинативных структур, в русском – номинативных и ролевых.
Как известно, английский и русский языки принадлежат к языкам номинативного типа, однако наблюдаются существенные расхождения в способе кодирования семантического представления ситуации в поверхностной структуре предложения. Это обусловлено тем, что в русском существует комплексная падежная система, в то время как в английском отсутствует регулярная система форм словоизменения. Напомним, что спецификой структур номинативного типа является то, что компоненты предложения занимают свои места в соответствии с синтаксическими позициями, которые образуются посредством системы связей словоформ, и выступают в функции членов предложения. Подлежащее как один из главных членов предложения являет собой « именной член предложения, синтаксический предмет , какой бы ни была его морфологическая принадлежность» [Левицкий 2007: 87]. Сказуемое как второй главный член предложения представляет собой синтаксический признак. В предложении подлежащее и сказуемое соотносятся посредством предикативной связи, при установлении которой происходит приписывание признака предмету и осуществляется формальное уподобление подлежащего и сказуемого. Характерной чертой структур номинативного типа является оформление подлежащего именительным падежом (для английского языка – общим падежом), за которым может быть закреплена любая семантика.
Что касается ролевых структур, то они представляют собой более ранний этап в развитии синтаксической структуры предложения по сравнению с номинативными и включают в себя эргативные, аффективные, активные и локативные структуры [см.: Мещанинов 1975: 201–250; Левицкий 2007: 39–44]. Специфика устройства ролевых структур состоит в том, что компоненты в них организуются не на основе синтаксических позиций, а исходя из семантики глагола, который обусловливает значение и форму предметных составляющих [Левицкий 2007: 52–60]. Следовательно, в создании поверхностной структуры предложений ролевого типа ведущую роль играет семантико-морфологический принцип, в то время как в номинативной – формально- синтаксический. Поэтому членами предложения, представляющими собой синтаксическое явление, можно считать лишь компоненты номинативного предложения. Мы сохраним данный термин относительно компонентов ролевой структуры, однако будем иметь в виду, что члены предложения ролевой структуры имеют специфические черты. Форма подлежащего в структурах ролевого типа может быть различной и зависит от семантики глагола. Способом идентификации подлежащего в структурах данного типа является первая позиция в предложении [там же: 59]. Предикативная связь в структурах ролевого типа реализуется формой управления.
Согласно концепции А. Вежбицкой, общая тенденция существования номинативных конструкций в языке объясняется агентивным восприятием действительности, т.е. представлением всех происходящих жизненных событий как подвластных нам, находящихся под нашим личным контролем [Вежбицкая 1996: 55–56]. Ролевые же структуры большей частью тяготеют к представлению события независимо от воли человека, особенно явно эта тенденция прослеживается в конструкциях с экспериенцером в главной роли. Кроме того, А. Вежбицкая отмечает, что для русского языка характерна неагентив-ность , имперсональность восприятия мира, т.е. ощущение того, что «людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизнь, события ограничена» [Вежбиц-кая 1996: 33]. Это бессилие человека объясняется тем, что в бессознательном слое укоренено «ощущение мира как образования без четко проработанной и всеобъемлющей структуры», что обусловливает нелогичность, непредсказуемость мира [Мельникова 2003: 117–118]. Эта нелогичность, непредсказуемость влечет за собой непод-властность жизненных событий человеку. Таким образом, в английском языке представление ак-танта-экспериенцера посредством номинативных структур обусловлено агентивным восприятием действительности англичанами. В русском языке тенденция выражать актант-экспериенцер в структурах ролевого типа связана с представлениями русских о неагентивной роли человека в мире.
Для того чтобы выяснить особенности семантики роли экспериенцера и способов ее выражения в английском и русском языках, были проанализированы художественные тексты на обоих языках. Выбор художественных текстов объясняется разнообразием формальных способов передачи семантики экспериенцера в текстах именно этого типа. Путем сплошной и селективной выборки было получено около 750 языковых единиц (372 в английском и 377 в русском). В русскоязычном материале объем номинативных конструкций с подлежащим-экспериенцером составил около 40%, ролевых – 60%, в англоязычном материале представлены только конструкции номинативного типа.
В исследуемых языках семантические особенности роли экспериенцера представлены довольно разнообразно: экспериенцер как носитель ментального процесса (29% случаев в общем количестве языкового материала: в английском – 14%, в русском – 15%); экспериенцер как субъект восприятия действительности (24%: в английском – 15%, в русском – 9%); экспериенцер как носитель психоэмоционального состояния (18%: в английском – 6%, в русском – 11%); экс-периенцер как носитель эмоционального отношения (16%: в английском – 5%, в русском – 11%); экспериенцер как носитель физического состояния (13%: в английском – 6%, в русском – 7%).
Необходимо отметить, что структура предложения с экспериенцером в главной роли обычно предполагает три компонента: субъект, предикат и объект, который является причиной того или иного состояния, при этом причина/объект может быть представлен в составе предложения как эксплицитно, так и имплицитно; в некоторых случаях причина может обозначаться в предельном широком контексте.
Рассмотрим вышеупомянутые подзначения экспериенцера.
1. Экспериенцер как носитель ментального процесса
В английском и русском языках семантика ментальной деятельности/состояния участника чаще реализуется в событии-процессе, реже – состоянии. В русском языке подлежащее с указанным значением выражается формами им.п. (60%), дат.п. (30%), род.п. (6%) и вин.п. (единичные случаи). Превалирование номинативных структур в русском языке можно объяснить тем, что интеллектуальная деятельность традиционно осуществляется под контролем сознания, с усилием воли, что предполагает активность участника и представление его в структуре предложения формой им.п.
В английском и русском языках наблюдается ряд схожих способов выражения указанного значения подлежащего: 1 ) N 1 VfN 4 /Inf/Clause (англ. 78%, рус. 40%): (1) I remembered a little white town (Ch., 190); (2) I planned to take the money (Ch., 151); (3) She ’ll imagine you are after her money (Ch., 104); (4) Загадку разгадала она (А., 266); (5) А она мечтает быть художницей (А., 79); (6) … я решил, что он спит (А., 23);
2 ) N 1 V f prN 6 (англ. 9%, рус. 16%): (7) I was thinking about her (H., 192); (8) А еще она постоянно думала об этом (Т.ВМ, 75); 3 ) N 1 V be PartII (англ. 2%, рус. 4%): (9) Baby is puzzled (H., 39); (10) Маша была убеждена в этом (Т.ВМ, 78).
Кроме того, в английском языке подлежащее с семантикой экспериенцера как носителя ментального процесса может быть представлено в составе конструкций: 4 ) NV be Adj (7%) : (11) I was pretty confident (Ch., 136); 5 ) N 1 V have N 4 (5%): (12) I had a vague general idea (Ch., 97). Добавим, что в структуре 5 участник выступает не только как экспериенцер, но и как активный обладатель идеи.
В русском языке ментальная деятельность субъекта может быть представлена посредством ролевых конструкций, при этом дейст-вие/состояние воспринимается как протекающее само собой, без приложения усилий со стороны участника. Это находит отражение в предложениях, построенных по моделям: 6 ) N 3 V возвр N 1 /Clause (17%): (13) Из улыбок Петьке запомнилось более или менее лицо дядьки Юрки (Г., 164); (14) Старухам казалось: витамины обрадуют кровь (Т.ССД, 240); 7 ) N 3 V быть Adv o N 1 /Inf/Clause (14%): (15) Мне интересно мнение культурного человека (Т.ВМ, 111); (16) Мне было не интересно беседовать о бренности бытия (Т.ВМ, 273); (17) Им было интересно и не совсем понятно, о чем заспорила творческая интеллигенция (Т.ССД, 273); 8 ) уN 2 V быть/фазисн.гл. N 1 (6%): (18) У мерзавца возник подлый, но чрезвычайно сильный план (А., 600). 9 ) N 4 V f N 1 (3%): (19) Меня интересуют раскольники (А., 482). Подлежащее-экспериенцер в (19) обладает дополнительной семантикой объекта, которая возникает в связи с формой вин.п.
Таким образом, в обоих исследуемых языках наиболее распространенным способом представления носителя ментальной деятельности является структура N 1 V f N 4 /Inf/Clause. Форма им.п. подлежащего указывает на то, что интеллектуальный процесс протекает с участием воли субъекта.
2. Экспериенцер как субъект восприятия действительности
В английском языке экспериенцер с семантикой субъекта восприятия (зрительного, слухового, тактильного) в подавляющем большинстве случаев реализуется в событии-процессе. В русском языке данная семантика представлена чаще формой им.п. (71%), чем дат.п. (29%). Перцепция может осуществляться участником с разной степенью активности, в связи с чем глаголы восприятия можно разделить на активные и пассивные.
-
1) Экспериенцер при предикатах активного восприятия
Активные глаголы, по словам А. Мустайоки, указывают на добывание информации [Мустайо-ки 2006: 216]. Актант при глаголах активного восприятия, помимо значения экспериенцера, получает дополнительную семантику агента. В русском и английском языках участник активного восприятия представлен посредством следующих структур: 1 ) N 1 V f prN 4 (англ. 39%, рус. 37%): (20) I looked at the clock on the desk (Ch., 97); (21) Дворецкий посмотрел на них обоих (А., 262); 2 ) N 1 V f N 4 (англ. 13%, рус. 14%): (22) He was watching me (Ch., 105); (77) Дамы долго слушали прочувственную речь писаного красавца (А., 52).
Для русского языка специфичным способом передачи подлежащего с исследуемой семантикой является структура: 3 ) N 1 V возвр (3%): (23) Лорд Беркли с подозрением озирался вокруг (А., 261). При этом в зону восприятия субъекта попадает не какой-либо один объект, а все окружающее пространство.
2) Экспериенцер при предикатах пассивного восприятия
3. Экспериенцер как носитель психоэмоционального состояния
Как в английском, так и в русском языках подлежащее может быть представлено в структуре: 4 ) N 1 V f N 4 / Clause (англ. 45%, рус. 17%): (24) I felt a heavy hand one of the cops (Ch., 67); (25) I saw Lola came out of the lunch room (Ch., 148); (26) Я ощутила острый запах сырой земли (А., 19); (27) Я видел, как он выходил из дома (А., 340). Однако в русском языке подлежащее-экспериенцер при предикате пассивного восприятия чаще представлено в составе ролевых структур: 5 ) N 3 V быть PartIIN 1 /Clause (23%): (28) Им было видно практически все (Г., 298); (29) Им было видно, как уходит в сторону сопок стая волков (Г., 298); 6 ) N 3 V возвр N 1 (6%): (30) Мне слышится музыка (Т.ССД, 65).
Итак, в английском языке наиболее распространенным способом представления подлежащего с семантикой экспериенцера как субъекта восприятия действительности являются структуры N 1 V f prN 4 и N 1 V f N 4 , в русском – N 1 V f prN 4 . При этом восприятие мыслится как протекающее под контролем участника.
Экспериенцер как носитель психоэмоционального состояния в обоих языках представлен в событии-состоянии . Местом локализации эмоций обычно является душа, сердце, внутренний мир человека, что обусловливает появление указанных категорий в составе подлежащего.
В русском языковом материале, в отличие от английского, отмечается большое количество единиц с семантикой внутреннего эмоционального состояния. Данный факт объясняется тем, что носители английского языка менее склонны к открытому выражению своих эмоций. Русским, напротив, свойственно довольно открыто говорить о своих чувствах, используя при этом разнообразие языковых форм. Подлежащее с семантикой экспериенцера как носителя психоэмоционального состояния имеет форму дат.п. (30%), им.п. (23%), вин.п. (21%), род.п. (18%), род.п.+им.п. (8%).
В английском и русском языках наблюдается ряд общих конструкций, посредством которых реализуется значение эмоционального состояния участника, а именно: 1 ) N 1 V be Adj (англ. 42%, рус. 5%): (31) Rinaldy was quiet now (H., 147); (32) Только семь коротких дней он был счастлив и горд, как никто на свете (Т.ВМ, 232); 2 ) N 1 V be prN 6 (англ. 10%, рус. 3%): (33) I was in a daze (Ch., 188); (34) Семья в панике (А., 245); 3 ) N 1 V f (англ. 10%, рус. 4%): (35) I hesitated (Ch., 169); (36) Он струсит (Т.ВМ, 60); 4 ) N 1 V f prN 4 (англ. 8%, рус. 3%): (37) Now he lapsed into suffering again (H., 267); (38) Она погрузилась в тоску (Т.ВМ, 101). Во всех указанных случаях парти-ципант является носителем и источником того или иного эмоционального состояния. 5 ) N 1 V be PartII (англ. 31%, рус. 5%): (39) He was favorably impressed (H., 323); (40) Она была поражена его успехами (Т.ВМ, 45). Участник ситуации воспринимается как носитель состояния, возникшего под воздействием определенного фактора. При этом причина, которая в примере (39) устранена из состава предложения и реализована в общем смысле текста, не только обусловливает появление того или иного состояния, но и «направляет» это состояние на участника. Следовательно, причина имеет довлеющий характер.
В русском языке возможны случаи выражения подлежащего со значением носителя эмоционального состояния в составе следующей структуры: 6 ) N 1 V возвр (4%): (41) Бедняга так радовался! (А., 122). В данном случае участник активен в проявлении эмоции, что обусловливается глаголом-сказуемым с – cя , имеющим отсубъект-ное значение.
В русском языке носитель эмоционального состояния значительно чаще представлен в составе ролевых структур, поскольку эмоции часто осмысляются как непроизвольные, независящие от участника. Сам участник ситуации не в состоянии контролировать чувства, так как эти чувства возникают стихийно. Форма дат.п. под- лежащего представлена в конструкциях: 7) N3Vбыть/полузнам.глAdvо (30%): (42) Анатолию стало стыдно за жену (Т.ССД, 117). В примере (42) чувство, скорее, имеет осознанный характер, но не контролируется волей. При этом участник, обозначенный словоформой дат.п., мыслится одновременно и как субъект, и как объект, поскольку, с одной стороны, участник является носителем эмоционального состояния, которое свойственно всему живому, что предполагает его субъектность, с другой – участник предстает как охваченный данным эмоциональным состоянием независимо от его воли, что влечет за собой проявление его неактивности.
Осмысление главного участника ситуации в качестве объекта прослеживается в представлении подлежащего формой вин.п.: 8 ) N 4 V f N 1 (9%): (43) Ее ужаснула бедность, грязь и, главное, трудность ежедневной жизни (У.КК, 242). Свойства окружающей среды вызывают то или иное состояние участника, по отношению к которому он выступает как неактивный. 9 ) N 4 V impers (8%): (44) Почему меня поволокло в научную сухотку? (У.КК, 588). В данном случае подлежащее сопрягается со сказуемым, представленным безличным глаголом. Представление сказуемого безличным глаголом при подлежа-щем-экспериенцере довольно широко распространено в русском языке и связано со спецификой миропонимания. Согласно древнему мышлению все физические и психические изменения обусловливались действием мифических существ [Потебня 1968: 320], которые не назывались либо ввиду неизвестности, либо из-за боязни [там же: 322]. С течением времени связь действия с его производителем ослабляется, основной смысловой акцент делается на участнике, который находится под влиянием этого действия. Устранение мифического деятеля и потеря его связи с действием/признаком повлекло за собой тот факт, что в русском языке безличный глагол приобрел значение стихийности проявления признака, т.е. осмысления процесса как происходящего само собой, независимо от воли его носителя (44).
10 ) N 4 V impers N 5 (4%): (45) Трофимова обдало теплой волной нежности и благодарности за то, что они есть (Т.ВМ, 121). Участник ситуации находится под влиянием действующих внутри него чувств.
Участник-экспериенцер может выступать и как обладатель, и как локализатор эмоционального состояния, что выражается посредством формы род.п. подлежащего: 11 ) уN 2 V быть N 1 (18%): (46)… у Новенькой было счастливое детское чувство… (У.КК, 335).
Форма род.п.+им.п. подлежащего реализуется в структурах: 12 ) уN 2 (N 1 )V быть Adj (4%): (47) Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом (У.КК, 540). 13 ) уN 2 (N 1 )V возвр (4%) : (48) У меня внутри что-то перевернулось от неожиданности и торжественности (Т.ВМ, 134). В структурах 12, 13 используется комплексное представление участника ситуации [Золотова 1982: 154–155]; при этом в качестве непосредственного средоточия эмоций выступает психоэмоциональная составляющая, обозначающая субъект вместе с его неотъемлемой частью, локализующей психическое состояние. В связи с чем субъект, оформленный род.п., получает добавочное значение обладателя эмоциональной составляющей и локализатора состояния. Сказуемое в грамматическом плане ориентировано на словоформу, обозначающую эмоциональную составляющую, что представлено их формальным согласованием. Добавим, что подсознательная необъяснимость внешнего мира проецируется и на внутренний мир человека, где эмоции представляются как нечто ирреальное, неподвластное четкому осмыслению, что демонстрируется использованием неопределенного местоимения в составе подлежащего (48).
Итак, в английском языке эмоциональное состояние участника ситуации чаще всего представлено в составе структуры N 1 V be Adj, где участник мыслится как контролирующий свое эмоциональное состояние. В русском языковом материале подлежащее-экспериенцер в большем количестве случаев представлено формой дат.п. в составе структуры N 3 V быть/полузнам.гл Adv о , при этом эмоциональное состояние осмысляется как охватывающее участника независимо от его воли.
4. Экспериенцер как носитель эмоционального отношения
В английском и русском языках данная семантика подлежащего в основном представлена в событии-состоянии. В русском языке подлежащее с указанным значением чаще выражено формой дат.п. (75%), чем им.п. (25%).
Общим способом обозначения носителя отношения в обоих языках является структура: 1 ) N 1 V f N 4 (англ. 58%, рус. 12%): (49) He loves Franz Joseph (H., 12); (50) Ты слишком любишь жизнь (Т.ВМ, 80). С ее помощью может быть представлено как положительное, так и отрицательное отношение к чему-либо или к кому-либо.
В английском языке подлежащее со значением носителя отношения к субъекту/объекту может быть реализовано в структурах: 2) N1VbeAdjprN6 (13%): (51) Jenson was too crazy about her (Ch., 132); 3) N1VhaveN4 (6%): (52) He had great admiration for the British (H., 151) Если выражается отношение к какому-либо событию, то конструкция приобретает вид 4) N1VfGer/Inf (15%): (53) I hate doing of a thing like this to him (Ch., 135); (54) He liked to talk about his past life and his ambitions (Ch., 110); 5) N1VbeAdjInf (6%): (55) I’m glad to have company on driving back (Ch., 69). При этом событие представлено формой герундия (53) и инфинитива (54), (55).
В русском языке выражение участником того или иного отношения к субъекту/объекту находит представление в следующих конструкциях: 6 ) N 1 V возвр N 2 (6%): (56) Кобру или, скажем, ехидну всякий напугается (А., 154); 7 ) N 1 V быть N 2 (8%): (57) Женщины этого типа всегда неравнодушны к брюнетам с синими глазами (А., 254). В английских и русских номинативных структурах эмоциональное отношение участника представлено как исходящее от самого участника-экспериенцера, при этом отношение имеет осознанный, произвольный характер. Однако для русских в большей степени характерно осмысление эмоционального отношения как возникающего непроизвольно и протекающего без внутреннего контроля участника. Эта тенденция прослеживается в довольно частом употреблении конструкций ролевого типа: 8 ) N 3 V быть Adv o N 4 (32%): (58) Фандорину стало жалко беднягу (А., 97); 9 ) N 3 V возвр N 1 /Inf/Clause (23%): (59) Мне очень нравится ваш маленький Буше (А., 48); (60) Федькину больше всего нравилось белить потолки (Т.ВМ, 245); (61) Ей не нравилось, что Фернандо низколобый (Т.ВМ, 192). При этом событие обычно представлено сложным сказуемым (60) или придаточным предложением (61). 10 ) N 3 V быть InfprN 4 /Clause (19%): (62) Старушке было плевать на Минаева (Т.ВМ, 100); (63) Ему было плевать, кто такой руководитель (Т.ВМ, 82). Участник ситуации выражает свое безразличие и в определенной мере пренебрежение к субъекту/объекту, что передается экспрессивным характером глагола.
11 ) N 3 V быть N 1 Adv (14%): (64) Через несколько часов Марго проснулась в реанимационной палате…Она поняла, что жива, ее это не обрадовало и не огорчило. Ей было все равно (Т.ССД, 307). В данном случае подлежащее сочетается со сказуемым, выраженным устойчивым оборотом, с помощью которого передается безразличное отношение к событию. Само событие описано выше, представлено в ситуации.
Отношение к субъекту/объекту участник может испытывать в силу определенных обстоятельств, что проявляется в структуре: 12) N3VбытьNegN2 (12%): (65) А мне было не до снега (А., 687). Посредством структуры 12 традиционно выражается некоторое нерасположение к субъекту/ объекту.
Таким образом, в английском языке носитель эмоционального отношения, как правило, представлен посредством структуры N 1 V f N 4 , при этом отношение мыслится как осознанное участником. В русском языке типичным способом реализации данного значения является форма дат.п. в структуре N 3 V возвр N 1 /Inf/Clause. В этом случае отношение участника воспринимается как непроизвольное.
5.Экспериенцер как носитель физического состояния
В английском и русском языках экспериенцер с указанной семантической особенностью значительно чаще реализуется в событии-состоянии, реже – в событии-процессе. В русском языке подлежащее со значением носителя физического состояния большим количеством случаев представлено в ролевых структурах и имеет форму род.п. (28%), дат.п. (22%), род.+им.п./вин.п. (20%), вин.п. (16%) и им.п. (14%). Поскольку для физиологического состояния характерна локализация в какой-либо области тела, то именно части тела и органы человека могут быть представлены в языке в качестве основных участников ситуации.
Способ реализации экспериенцера с семантикой физического состояния совпадает в русских и английских номинативных структурах: 1 ) N 1 V f (англ. 8%, рус. 12%): (66) My leg ached (H., 253); (67) В углу в кресле дремал какой-то усач (А., 79). Отметим, что для английского языка характерна ярко выраженная тенденция представления части тела как самостоятельно действующей, чувствующей.
Далее структурные способы реализации экс-периенцера с семантикой носителя физического состояния расходятся. Так, указанный семантический тип подлежащего представлен в английских структурах: 2 ) N 1 V be Adj (48%): (68) I was thirsty (H., 314); 3 ) N 1 V have N 4 (27%): (69) He has gout (H., 179). Участник в примере (69) предстает в качестве обладателя болезни, при этом обладание имеет активный характер. 4 ) N 1 V f N 4 (8%): (70) I felt a rush of blood to my head (Ch., 107). Общей особенностью структур 1 , 2 , 3 , 4 является то, что состояние мыслится как исходящее от субъекта, возникающее в силу определенных обстоятельств. В то же время состояние может быть представлено как направленное на субъект: 5 ) N 1 V be PartII (8%) : (71) I ’m very tired of this walking (H., 135); (72) His heard is hurt (H., 69).
В русском языке наблюдается бóльшее разнообразие способов представления подлежащего с семантикой носителя физического состоянии. Форма им.п. находит выражение в составе структуры: 6) N1VбытьprN6 (2%): (73) Все равно я была в обмороке (А., 17).
При выражении подлежащего формой род.п. участник предстает в качестве обладателя и локализатора того или иного физического состояния: 7 ) уN 2 V быть N 1 (28%): (74) У меня бронхит (Т.ВМ, 126).
Подлежащее представлено формой дат.п. в структурах: 11 ) N 3 V быть/полузн.гл .Adv о (16%): (75) Ему было тепло от ее руки (Т.ВМ, 112). 12) N 3 V быть Adv o Inf (6%): (76) Ей было трудно покинуть даже собственную комнату (У.КК, 519); (77) Паше было неудобно пребывать в одной позе (Т.ССД, 218). Физическое состояние, которое испытывает участник, каузировано определенным действием. В связи с этим предложения, построенные по модели 12, обладают двойной предикацией, а именно (76) « Ей было трудно» и « Она покинуть комнату» . Это влечет за собой возможность совмещения в семантике подлежащего нескольких ролей, тип которых зависит от характера предикатов. Так, в (76) подлежащее совмещает роли экспериенцера и агента, в (77) – экспериенцера и патиента. Существование двойной предикации и, как следствие, совмещение семантических ролей в подлежащем обусловлено принципом экономии языковых средств.
В русском языке конкретная область локализации физического состояния обычно представлена комплексным субъектом, т.е. обозначением субъекта и его неотъемлемой части, локализующей физическое состояние. При этом подлежащее имеет форму род.п.+им.п./вин.п. и выражено в структурах: 8 ) уN 2 (N 1 )V f (7%): (78) У меня болит нога (Т.ССД, 134); 9) уN 2 (N 4 ) V impers (4%): (79) У Лидии ломило затылок (Т.ВМ, 157); 10 ) уN 2 (N 1 )V возвр (2%): (80) У меня голова в теплой воде намного лучше делается (У.КК, 654). В (78) состояние воспринимается говорящим как константное и активно протекающее, в (79) – как стихийное. В (80) участник представлен изменяющим свое состояние под воздействием эксплицитно представленной причины. При этом состояние изменяется как бы само собой, что обусловливается постфиксом –ся , имеющим в данном случае помимо значения возвратности семантику самовоспроизводимости действия.
Носитель физического состояния так же, как и носитель эмоционального состояния, может быть осмыслен в качестве объекта, испытывающего состояние независимо от своей воли. Подлежащее в таком случае выражено формой вин.п.: 13) N4Vimpers (12%): (81) Меня тошнило от страха и подъема (Т.ВМ, 83); 14) N4VfN1 (4%): (82) Ее мучил токсикоз (Т.ВМ, 41). Следует отметить, что предложение, построенное по модели 14, в смысловом плане несколько схоже с предложением, построенным по модели 7 (Ее мучил токсикоз – У нее токсикоз), что обусловлено признаковым значением словоформы в им.п. Однако в (82) речь идет не просто о наличии того или иного физического состояния, а об определенной интенсивности состояния.
Итак, в английском языке подлежащее с семантикой носителя физического состояния чаще всего реализуется в структуре N 1 VbeAdj, где состояние представлено как исходящее от субъекта. В русском языке наиболее распространенным способом представления данной семантики является форма род.п. в структуре уN 2 V быть N 1 , при этом участник предстает как неактивный обладатель и локализатор физического состояния.
Таким образом, в обоих языках наибольшим количеством единиц реализовано подзначение экспериенцера как носителя ментального процесса, которое чаще всего реализуется в структуре N1VfN4/Inf/Clause. Тенденция представления подлежащего-экспериенцера с указанным подзначением, вероятно, объясняется особенностью восприятия человека в первую очередь как думающего, мыслящего субъекта. Приблизительно равное количество единиц в английском и русском языках обнаруживает значение экспериен-цера как носителя физического состояния, при этом чаще всего носитель физического состояния в английском языке представлен в предложении, построенном по схеме N1VbeAdj, в русском – уN2VбытьN1. Преобладание формы род.п. подлежащего обусловлено необходимостью указать на пространственную локализацию физиологического признака. Значение экспериенцера как носителя восприятия действительности наибольшим количеством единиц реализовано в англоязычном материале. Данное значение выражается в структуре N1VfN4 в английском языке и N1VfprN4 – в русском. Превалирование подзначения экспериенцера как носителя ментального и перцептивного процесса в английском языке свидетельствует о том, что для англичан, по-видимому, более важным и естественным является выражение своих ощущений и мыслей, нежели эмоций. Доминантность значений экспери-енцера, связанных с эмоциональной сферой, т.е. эмоционального состояния и эмоционального отношения, обнаруживается в русском языке, где подлежащее чаще всего имеет форму дат.п. При этом подлежащее с семантикой носителя эмоционального состояния в русском языке чаще представлено в структуре N3Vбыть/полузнам.глAdvо, в английском – N1VbeAdj. Подлежащее с семантикой носителя эмоционального отношения реализовано наибольшим количеством случаев в русском языке в структуре N3VвозврN1/Inf/Clause, в английском – N1VfN4. Преобладание указанных типов значений в русском языке объясняется тенденцией русских к более открытому выражению своих чувств, оценок в противовес английской эмоциональной сдержанности. При этом в русском языке семантика носителя физиологического, эмоционального состояния, эмоционального отношения реализуется чаще всего посредством ролевых структур, что репрезентирует представление об участнике как неконтролирующем свои чувства, эмоции. Возникновение эмоционального/физического состояния в представлении русских происходит независимо от воли человека, что также подтверждается довольно частым сопряжением ролевого подлежащего со сказуемым, выраженным безличным глаголом, который имеет семантику стихийности проявления признака. Представление подлежа-щего-экспериенцера номинативными структурами в английском языке свидетельствует о том, что чувства, эмоции, мысли осознаются англичанами как исходящие от человека, протекающие под его контролем.
Assistant of Foreign Languages,
Linguistics and Intercultural Communication Department
Perm State Technical University
Список литературы Семантика и способы выражения подлежащего-экспериенцера в языковом сознании англичан и русских
- А. -Акунин Б. Нефритовые четки. М.: «Захаров», 2007. 704 с.
- Г. -Геласимов А. Степные боги. М.: ЭКСМО, 2008.384 с.
- Т.ВМ -Токарева В. Вместо меня: рассказы. М.: Эксмо, 1995. 368 с.
- Т.ССД -Токарева В. Самый счастливый день. М.: АСТ Хранитель, 2008. 415 с.
- У.КК -Улицкая Л. Казус Кукоцкого: роман. М.: Эксмо, 2008. 736 с.
- Ch. -Chase J.H. Come easy -go easy. М.: Рольф, 2002. 384 с.
- H. -Hemingway E. A farewell to arms. СПб.: КОРОНА принт, КАРО, 2004. 416 с.
- Гумбольдт К.В. фон. Избранные труды по языкознанию: пер. с нем. М.: Прогресс, 2000. 400 с.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: пер. с англ. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
- Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ//Вопр. психол. 1993. №5. С. 20-29.
- Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982. 368 с.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
- Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996. 288 с.
- Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфическое в языке). 2-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 336 с.
- Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М.: Наука, 1990. 108 с.
- Левицкий Ю.А. Альтернативные грамматики: учеб. пособ. по спецкурсу/Перм. пед. ун-т. Пермь, 2007. 144 с.
- Маслова В.А. Лингвокульторология: учеб. пособ. для студ. вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 208 с.
- Мельникова А.А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности. СПб.: Речь, 2003. 320 с.
- Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. Л.: Наука, 1975. 352 с.
- Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам. М.: Языки славянской культуры, 2006. 512 с.
- Павиленис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-функциональный анализ языка. М.: Мысль, 1983. 266 с.
- Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т.3: Об изменениях значения и заменах существительного. М.: Просвещение, 1968. 551 с.
- Талми Л. Отношение грамматики к познанию//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1999. №1. С. 91-115.
- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 624 с.
- Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983. 320 с.
- Филлмор Ч. Дело о падеже//Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1981. Вып.10. Лингвистическая семантика. С.369-495.
- Чейф У. Значение и структура языка. 2-е изд., стереотип. М.: Едиториал УРСС, 2003. 424 с.