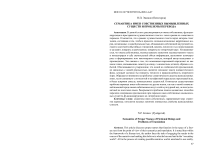Семантика имен собственных вымышленных существ и проблемы перевода
Автор: Эминов Николай Павлович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются имена собственные, функционирующие в пространстве художественного текста с точки зрения их семантики и перевода. Отмечается, что в рамках художественного текста перед автором стоит задача, состоящая в том, чтобы в процессе создания возможных нарративных миров, несвязанных с нашей реальностью, обладающих собственной внутренней логикой и системой событийных отношений, вовлечь читателя в ход повествования и заставить поверить в прочитанное, поверить во «вторичный мир». Устанавливается, что имена собственные, являясь важным элементом художественного текста и концентрируя в себе значительный объем информации, выполняют ключевую роль в формировании того многомерного смысла, который автор вкладывает в произведение. Это связано с тем, что номинация персонажей определяет их как некие знаки, связывающие сюжетную канву с множеством деталей, образов и событий. Обосновывается утверждение, что одной из особенностей произведений, не связанных с нашей реальностью, является описание такого ономастического фона, который заставил бы поверить читателя в правдоподобность вторичного мира. Обращается внимание на проблему семантического анализа вымышленных имен, тесно связанную с онтологией и метафизикой нереальных персонажей или, в более широком смысле, вымышленных сущностей. Отмечается существующая проблема перевода имен собственных на другие языки, так как в своей изначальной языковой среде имена собственные несут в себе культурный код, не всегда понятный не носителю языка. Раскрывается проблема поиска адекватных способов передачи содержания произведения при переводе имен собственных вымышленных существ, функционирующих во «вторичном мире».
Семантика имен собственных, нарративный мир, стратегии перевода, онтология нулевых понятий, ономастика, свойства вымышленных существ
Короткий адрес: https://sciup.org/149141366
IDR: 149141366 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-67
Текст научной статьи Семантика имен собственных вымышленных существ и проблемы перевода
В художественной литературе авторские нарративные миры представляют собой выдуманные вселенные, имеющие другую онтологическую основу, в которой основные сюжетные события происходят не в нашей реальности. Данное явление можно сравнить с игровым процессом, поскольку дети, вовлеченные в игру, принимают условную игровую реальность как действительность. Каждому ребенку, да и взрослому тоже, свойственно вызывать в самом себе, по терминологии профессора Дж.Р.Р. Толкина [Tolkien 2008], «вторичную веру» в то, что он только что придумал.
В своем эссе «On Fairy-stories» Дж.Р.Р. Толкин говорит: «То make a Secondary World inside which the green sun will be credible, commanding Secondary Belief, will probably require labour and thought, and will certainly demand a special skill, a kind of elvish craft. Few attempt such difficult tasks. But when they are attempted and in any degree accomplished then we have a rare achievement of Art: indeed narrative art, storymaking in its primary and most potent mode» [Tolkien 2008].
«Создание Вторичного Мира, внутри которого зеленое солнце будет вызывать доверие, повелевающее Вторичной Верой, вероятно, потребует труда и размышлений и, безусловно, потребует особого мастерства, своего рода эльфийского ремесла. Немногие пытаются решить такие сложные задачи. Но когда они пытаются и в какой-то степени достигают этого, то мы можем наблюдать редкое достижение Искусства: бесспорного нарративного искусства, создания историй в первичном и наиболее убедительном виде» [Tolkien 2008] (перевод наш -Н.Э.у
В рамках художественного текста перед автором стоит задача, состоящая в том, чтобы, в процессе создания возможных нарративных миров, несвязанных с нашей реальностью, обладающих собственной внутренней логикой и системой событийных отношений, вовлечь читателя в ход по- вествования и заставить поверить в прочитанное, поверить во «вторичный мир».
Для достижения данной цели автор использует множество стилистических и лексических средств, чтобы «вдохнуть жизнь» в свое произведение. Автор, формируя художественное пространство текста, репрезентирует реальный мир своего творческого нарратива. Как отмечают Ф.С. Кудряшева и Л.А. Фатыхова: «Адекватное понимание и интерпретация художественного произведения опирается на определенные смысловые доминанты, которые фокусируют в себе его основные идейные составляющие. При их формировании автор использует как традиционные стилистические средства, так и новые, в частности, интертекстуальные приемы, которые сформировали такие категории художественного текста как прецедентно сть и интертекстуальность» [Кудряшева, Фатыхова 2017, 254].
Одним из наиболее значимых и выразительных инструментов в арсенале автора является номинация - процесс соотнесения языковых единиц с обозначаемыми объектами. В нашем случае мы говорим о присвоении имен собственным вымышленным персонажам.
Ю.А. Карпенко определяет «литературную (неэстетическую) ономастику как отражение объективного в авторской “игре” языковыми нормами; степень субъективности снижается через связь литературного онима с жанром, с образной системой произведения, художественным замыслом и стилем; литературные имена собственные совмещают дифференцирующую и стилистическую функции» [Карпенко 1986].
Имена собственные, являясь важным элементом художественного текста и концентрируя в себе значительный объем информации, выполняют ключевую роль в формировании того множественного смысла, который автор вкладывает в произведение. Это связано с тем, что номинация персонажей определяет их как некие знаки, связывающие сюжетную канву с множеством деталей, образов и событий. Подобную трактовку имени собственного как элемента художественного текста мы можем наблюдать у многих исследователей.
В.А. Никонов: «Имя персонажа - одно из средств, создающих художественный образ; оно может характеризовать социальную принадлежность персонажа, передавать национальный и местный колорит, а если действие происходит в прошлом, то воссоздавать историческую правду (или разрушать ее, если имя избрано вопреки правде)» [Никонов 1974, 234].
И.Б. Маслова: «...имя в художественном тексте - это и средство воздействия на читателя, способствующее адекватному восприятию “духа” эстетического объекта» [Маслова 2012].
Д.М. Федотова: «Имена собственные в художественном тексте составляют заметный пласт в языковом разнообразии. Они оживляют текст, вызывают аллюзии и ассоциации с предметами, социумом людей и понятиями» [Федотова 2016].
Если рассматривать собственные имена в мирах фэнтези и волшебной сказки, то становится очевидным тот факт, что, неся в себе огромную смысловую нагрузку, они дают возможность вскрыть наиболее глубинные смыслы конкретных произведений.
Так, Н.И. Репринцева отмечает, что в английском фольклоре волшебная сказка имеет свою специфику, ономастическое пространство которой представлено мифонимами, антропонимами и топонимами. «Антропонимы и мифонимы являются двумя противоположными полюсами, делящими мир на добро и зло. Но из этого противостояния победителем выходит именно человек, что позволяет сделать вывод о ведущей роли антропонимов, зачастую отражающих характер этой борьбы» [Репринцева 2011, 332].
А. А. Новичков, рассматривая функционирование различных категорий онимов, используемых авторами для описания вымышленного «вторичного» мира в жанре фэнтези, обращает внимание, что «...богатейший инвентарь онимных средств, группируемый по особенностям денотативного значения в 20 разнородных категорий, дополняет топонимикон и антропонимикой романов жанра фэнтези, формируя в сознании читателя объемную панораму авторских вторичных миров, их истории, культуры, искусства» [Новичков 2011]. Таким образом обосновывается утверждение, что одной из особенностей произведений, не связанных с нашей реальностью, является описание такого ономастического фона, который заставил бы поверить читателя в правдоподобность вторичного мира.
Исходя из всего вышесказанного, нельзя не согласиться с Ю.Н. Тыняновым, который утверждал: «В художественном произведении нет неговорящих имен. В художественном произведении нет незнакомых имен. Все имена говорят. Каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми красками, на которые только оно способно» [Тынянов 1993, 135].
Действительно, имя помогает поверить в реальность вымышленного «вторичного мира».
Но вымышленные имена представляют собой противоречивую проблему для семантики. Как мы можем утверждать, что Бильбо - хоббит, в то же время признавая, что Бильбо не существует?
В контексте фантастического нарратива утверждение, например, что Бильбо - хоббит, вызывает определенные ассоциации в сознании. При этом имена собственные - безденотатные, пустые или вымышленные -анализируются как компоненты смысла, несущие в себе информацию, имеющую ключевое значение для адекватного восприятия авторского замысла.
Семантический анализ вымышленных имен представляет собой проблему, тесно связанную с онтологией и метафизикой нереальных персонажей, или, в более широком смысле, вымышленных сущностей. Под вымышленными именами будут пониматься наименования, которые вводятся для того, чтобы говорить о вымышленных персонажах. Таким образом, вымышленные имена собственные указывают на нулевые понятия, как Бильбо Бэггинс, Геральт из Ривии, граф Дракула, Колобок, Конан-варвар, 70
король Артур, Кощей Бессмертный, Супермен и т. д.
В рамках данной статьи рассматриваются именно такие вымышленные имена персонажей, в то время как вымышленные имена других видов (например, названия вымышленных городов, событий и т.д.) не затрагиваются. Более того, основное внимание будет уделено художественной литературе, оставляя, таким образом, в стороне кинематограф, музыку, изобразительное искусство и т.д.
Следует проводить важное различие между обычными именами собственными (Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен), обозначающими объекты, существующие в пространстве и времени, и вымышленными именами (Шерлок Холмс, Бэтмен) - наименованиями (онимами), отсылающими к не существующим в нашей реальности объектам. Шерлок Холмс и Бэтмен - выдуманные персонажи. Они не существуют в пространстве и времени и не взаимодействуют с реальными объектами. Если бы кто-то нашел данные, свидетельствующие о том, что Шерлок Холмс действительно существовал, это имя не было бы в списке вымышленных имен. Согласно распространенному интуитивному предположению, вымышленные имена имеют семантический референт. Читатель склонен рассматривать вымышленные имена как обычные имена и думать, что существуют обозначаемые ими объекты. Такая склонность может быть уместна при чтении художественной литературы, но она в то же время и вводит в заблуждение реципиента.
Вымышленные имена отличаются от обычных имен, и вероятнее всего, это различие отражается в том, как они индивидуализируются. Предложения с вымышленными именами имеют условия истинности, и, согласно интуиции и здравому смыслу, некоторые из них истинны. Тем не менее, такие предложения вызывают вопросы, потому что их истинность не подтверждается фактами: нет объекта, на который ссылается «Бэтмен», и нет фактов, подтверждающих истинность высказывания «Бэтмен патрулирует город». Если предложения с вымышленными именами истинны, то их истинность не зависит от фактов.
В связи с этим предлагается решение проблемы, заключающееся в присвоении вымышленным именам статуса несуществующих объектов или объектов в возможных мирах. Данный технический прием позволяет избавиться от необходимости решения онтологической проблемы, связанной с допущением этих объектов.
Однако это не отменяет существующую проблему перевода имен собственных на другие языки. Д.И. Ермолович, определяя имена собственные как «опорные точки в межъязыковой коммуникации», указывает на то, что они «исполняют функцию межъязыкового, межкультурного мостика» [Ермолович 2001]. При этом он также отмечает, что: «Это ценное свойство собственных имен, однако, породило распространенную иллюзию того, что имена и названия не требуют особого внимания при изучении иностранного языка и при переводе с него. Из-за этого их, как правило, не включают в отечественные двуязычные словари, о них почти ничего не говорится в учебниках по языку и переводу» [Ермолович 2001, 3].
Как результат при переводе появляются многочисленные ошибки, разночтения, неточности. Либо наоборот - «возводимая в абсолют “точность” передачи приводит к возникновению неудобопроизносимых, неблагозвучных или обессмысленных имен и названий» [Ермолович 2001].
С точки зрения В.С. Виноградова: «Имя собственное - всегда реалия. В речи оно называет действительно существующий или выдуманный объект мысли, лицо или место, единственные в своем роде и неповторимые. В каждом таком имени обычно содержится информация о локальной и национальной принадлежности обозначаемого им объекта» [Виноградов 2001, 150].
То есть всякий раз, когда имя собственное используется в речи, оно обозначает предмет, явление или личность. При этом факт того, что объект реально существует либо выдуман, не важен. Важно то, что он каждый раз единственный и неповторимый в своем роде. Каждая такая лексема является полисемантичной с точки зрения значения и несет в себе информацию (такую как: географическое положение объекта, национальная принадлежность, гендер, некие дополнительные свойства).
Мы вновь находим подтверждение того, что выбор имен собственных является функционально значимым, поскольку они служат целью раскрытия идейно-художественного замысла автора, наполняя тем самым художественный текст различным смысловым содержанием.
Однако, как уже указывалось ранее, возникает проблема представления имени собственного в процессе перевода. В своей изначальной языковой среде они обладают сложной смысловой структурой, уникальными особенностями формы и этимологии, способностями к видоизменению и словообразованию, многочисленными связями с другими единицами и категориями языка [Ермолович 2001].
При переводе имени на другой язык большая часть этих свойств теряется. И здесь мы сталкиваемся еще одной проблемой; если мы ставим своей задачей понимание текста, то перевод должен учитывать, с одной стороны, культурный фон, стоящий за текстом, и с другой - культурный код, сложившийся в сознании предполагаемого читателя.
Показательным является пример «вторичного мира» Дж.Р.Р. Толкина. На творчество профессора Толкина огромное влияние оказал его интерес к эпосу и мифологии народов Европы. Среди главных источников вдохновения писателя - древнеанглийская поэма «Беовульф», скандинавская мифология и финский эпос «Калевала» [Shippey 2012]. При прочтении у носителя европейской культуры возникают соответствующие ассоциации, поскольку «вшитый» в сознание культурный код легко считывается.
Многие имена и географические названия в оригинальном тексте «Властелина колец» имеют староанглийские, валлийские и скандинавские корни. Носители современного английского языка при прочтении без особых трудностей понимают используемые отсылки, но для русскоговоря-щих читателей данная связь может быть неочевидной.
Например, имя волшебника Гэндальфа позаимствовано из «Старшей Эдды». В древнескандинавском языке Gandalfr происходит от двух слов: -gandr («волшебный посох», «волшебство») и -alfr («альв») («Альвы -природные духи. Различались светлые, дружественные богам и людям (их мир называется Альвхейм), и темные альвы, подобно карликам, живущие под землей» [Корни Иггдрасиля 1997, 630]) и дословно означает «альв с волшебным посохом» [Shippey 2012].
Более того, в образе волшебника легко угадывается Один - верховный бог в скандинавской мифологии [Burns 2005]. Один в представлении скандинавов, путешествуя по Мидгарду предстает в виде седобородого старика с посохом, в плаще и в широкополой шляпе. В фантастическом нарративе Дж.Р.Р. Толкина волшебник Гэндальф также наделен всеми этими атрибутами. Мало того, Гэндальф и Один оба приносят жертвы и «умирают» в потусторонних испытаниях.
Оба путешествуют на сверхъестественных лошадях: восьминогий Слейпнир Одина и Shadowfax Гэндальфа (варианты перевода - Сполох, Светозар, Тенегрив, Обгоняющий Тень, Серосвет, Серогрив). Обе лошади связаны с духовным переносом и переходом между мирами.
Однако Одина и Гэндальфа объединяют не только лошади. Они оба также полагаются на птиц и полет птиц - орлов и воронов. Вороны Одина приносят ему новости издалека со всего мира, аналогичную роль выполняют ворон и дрозд в «Хоббите». Но для Толкина, как и для скандинавов, орлы - любимые птицы [Burns 2005].
Достаточно очевидным является и тот факт, что образ Гэндальфа в качестве мудрого волшебника и наставника в значительной мере соответствует не менее известному волшебнику Мерлину средневекового Арту-ровского цикла [Burns 2005; Hammond, Scull 2014].
Таким образом Гэндальф - не столько имя, сколько описание, стоящее за персонажем [Shippey 2012].
Имя собственное, функционирующее в тексте, представляет собой прецедентное для определенной культуры явление.
При переводе на другой язык имен собственных, несущих в себе национально-специфические реалии - ономастические реалии, предполагается раскрытие определенного ассоциативного фона, что позволяет нам рассматривать их как ассоциативно-безэквивалентные лексические единицы.
Исследователи С.И. Влахов и С.П. Флорин [Влахов, Флорин 1980] сформулировали свою собственную точку зрения на проблему ономастических реалий. Они считают, что имя собственное представляет собой самостоятельный раздел безэквивалентной лексики, который при переводе требует особого подхода.
Для передачи такого рода реалий на другой язык переводчик использует приемы, которые могут совпадать с переводческими приемами для безэквивалентной лексики. С реалиями повседневной жизни имена собственные сближает эмоциональная насыщенность, наличие коннотативного значения и возможность передавать особые характеристики нацио- нального или исторического контекста.
Особенности семантики имени собственного в художественном тексте представляют большой интерес. Наблюдения над функционированием имен собственных в конкретных произведениях еще не привели к формированию стройной и последовательной теории литературной ономастики, объясняющей многие факты художественной практики.
А.А. Новичков, исследуя методы передачи на русский язык антропонимов индивидуально-авторского ономастикона англоязычных произведений, написанных в жанре фэнтези, выделяет основные способы передачи антропонимов при переводе: транслитерирование, транскрибирование и калькирование [Новичков 2012]. Но вместе с тем он выделяет менее частотные, но все же используемые методы передачи антропонимов, такие как деонимизация, использование традиционного наименования, ограничение авторского оригинала, ограничение вариативности, онимическая замена, опущение.
Главная жанровая особенность фантастического нарратива заключается в наличии автономного «вторичного мира», обладающего невозможными в нашей реальности свойствами, которые затрудняют процесс перевода.
При переводе романов других жанров переводчик может опереться на свои знания об окружающей действительности [Киселева 2007, 55], тогда как «вторичный мир» со своими культурой, историей, законами и географией ставит перед переводчиком задачу нахождения адекватных способов передачи содержания произведения.
С одной стороны, имена собственные, не имеющие общепризнанных эквивалентов, дают переводчику большую свободу для обозначения. С другой стороны, возникает потребность адекватного способа донесения до читателя мысли, вложенной автором в то или иное понятие, поскольку эти названия автор строит, опираясь все же на свой родной язык и его грамматику.
Крайне интересным становится пример того, как сам автор представляет перевод своего «вторичного мира» на другие языки. Уже упоминаемый Дж.Р.Р. Толкин [Tolkien 1975] в «Guide to the Names in The Lord of the Rings», представляющем собой авторские практические рекомендации переводчикам, тщательно описывает, что стоит за каждым наименованием, используемым в его нарративе.
Вновь обратимся к хоббиту Бильбо Бэггинсу.
«Baggins. Intended to recall ‘bag’ - compare Bilbo’s conversation with Smaug in The Hobbit - and meant to be associated (by hobbits) with Bag End (that is, the end of a ‘bag’ or ‘pudding bag’ = cul-de-sac), <...> The translation should contain an element meaning ‘sack, bag’» [Tolkien 1975].
«Бэггинс. Предполагается, что это должно вызывать ассоциации с “котомкой” - для сравнения разговор Бильбо со Смаугом в “Хоббите” -подразумевающий ассоциации (у хоббитов) с Бэг-Эндом (то есть с краем “сумки” или “мешочком, для приготовления пудинга” = cul-de-sac), <...>
При переводе должен быть элемент, относящий к “мешку, сумке”» [Tolkien 1975] (перевод наш Н. Э.).
Оригинал: Baggins;
Перевод В. Муравьёва, А. Кистяковского: Торбинс;
Перевод Н.В. Григорьевой и В.И. Грушецкого: Сумникс;
Перевод В.А. Маториной: Торбинс;
Перевод А.А. Грузберга: Бэггинс;
Перевод М.В. Каменкович, В. Каррика: Бэггинс;
Перевод Д. Афиногенова, В. Волковского: Беббинс;
Пересказ 3. Бобырь: только по имени.
Как мы можем наблюдать, сам автор предполагает, что фамилия Baggins должна отсылать к слову bag. То есть такие варианты перевода на русский язык, как Торбинс или Сумникс, являются правильными. Однако ввиду различных причин не воспринимаются русскоговорящими читателями.
Как отмечал В.С. Виноградов: «Итак, все перечисленные характеристики имен собственных и рекомендации по переводу ономастики не застрагивают сугубо творческих проблем перевод. Они лишь обязывают переводчика накопить определенный багаж знаний и выработать необходимые профессиональные навыки. Однако будь переводчик семи пядей во лбу, ему все равно не запомнить всех каверз, которые могут подстроить имена собственные. Ради самозащиты ему приходится то и дело заглядывать в словари и справочники. К сожалению, переводчики иногда испытывают трудности из-за отсутствия двуязычных словарей имен собственных» [Виноградов 2001, 159].
Таким образом, мы приходим к следующим выводам:
-
1) Цель автора при создании своего нарративного мира, несвязанного с нашей реальностью, - вовлечь читателя в нить повествования и заставить поверить во «вторичный мир».
-
2) Имена собственные выполняют значимую роль в художественном тексте, отражая в себе закладываемый автором в произведение смысл.
-
3) Имена собственные, функционирующие в фантастическом нарративе, представляют собой противоречивую проблему для семантики.
-
4) Автор при создании своего «вторичного мира» посредством номинации закладывает в семантику имени некий концепт, зачастую несущий культурный код, не всегда понятный не носителю языка.
-
5) При переводе имен собственных вымышленных существ / персонажей перед переводчиком возникают определенные трудности.
Список литературы Семантика имен собственных вымышленных существ и проблемы перевода
- Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
- Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980. 344 с.
- Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имен собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода. М.: Р. Валент, 2001. 200 с.
- Киселева И.А. Особенности перевода литературы жанра фэнтези // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2007. № 1(2). С. 55–58.
- Маслова И.Б. Имя собственное как средство лингвистической интерпретации художественного текста: к вопросу о текстообразующей функции литературных имен собственных (на материале очерков В.И. Даля) // Полилингвиальность и транскультурные практики. 2012. № 3. С. 50–56.
- Никонов В.А. Имя и общество. М.: Наука, 1974. 278 с.
- Новичков А.А. Онимы как средство создания вторичных миров в художественных произведениях фэнтези // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 3. C. 84–87.
- Новичков А.А. Передача антропонимов при переводе произведений жанра фэнтези // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2012. № 1(17). С. 199–206.
- Карпенко Ю.А. Имя собственное в художественной литературе // Филологические науки. 1986. № 4. С. 34–40.
- Корни Иггдрасиля. Древнеисландская литература / сост. и отв. ред. Смирницкая О.А. М.: ТЕРРА (Викинги), 1997. 640 с.
- Кудряшева Ф.С., Фатыхова, Л.А. Имя собственное в художественном тексте как средство создания языковой картины мира // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22. № 1. С. 254–259.
- Репринцева Н.И. Прецедентные антропонимы и их семантика (на примере английской народной сказки) // Теория и практика общественного развития. 2011. № 4. С. 332–334.
- Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М.: Высшая школа, 1993. 319 с.
- Федотова Д.М. Имена собственные и онимы в художественном тексте // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. № 13(752). С. 107–115.
- Burns M. Perilous realms. Celtic and Norse in Tolkien’s Middle-earth. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2005. 238 p.
- Hammond W., Scull C. Lord of the Rings: A Reader’s Companion. London: HarperCollins Publishers Inc., 2014. 982 p.
- Shippey T. The Road to Middle-Earth. London: HarperCollins Publishers Inc., 2012. 496 p.
- Tolkien J.R.R. Guide to the Names in “The Lord of the Rings” // A Tolkien compass / Coord. by J. Lobdell. La Salle, Illinois: Open Court, 1975. P. 153–201.
- Tolkien J.R.R. On Fairy-stories / Ed. by V. Flieger, D.A. Anderson. London: HarperCollins Publishers Inc., 2008. 323 p.