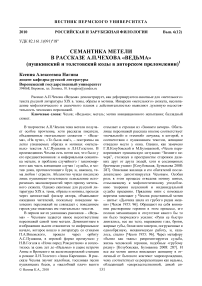Семантика метели в рассказе А.П. Чехова «Ведьма» (пушкинский и толстовский коды в авторском преломлении)
Автор: Нагина Ксения Алексеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 6 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассказ А.П.Чехова «Ведьма» демонстрирует, как деформируются сквозные для «метельного» текста русской литературы XIX в. темы, образы и мотивы. Инверсия «метельного» сюжета, несовпадение мифологического и сказочного планов с действительностью выявляют духовную несостоятельность чеховских персонажей.
Чехов, "ведьма", метель, мотив инициационного испытания, балладный сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14728939
IDR: 14728939 | УДК: 82.161.1(091)''18''
Текст научной статьи Семантика метели в рассказе А.П. Чехова «Ведьма» (пушкинский и толстовский коды в авторском преломлении)
В творчестве А.П.Чехова тема метели получает особое прочтение, хотя рассказы писателя, объединенные «метельным» сюжетом – «Ведьма», «На пути», «То была она!», – построены на легко узнаваемых образах и мотивах «метельных» текстов А.С.Пушкина и Л.Н.Толстого. В произведениях Чехова есть почти все, что было у его предшественников: и инфернальная семантика метели, и проблема случайного / закономерного как часть концепции случая / судьбы, и мотив дома, противостоящего буре, и, наконец, тема любви / страсти. Абсолютно чуждо писателю лишь пушкинско-толстовское осмысление исторических закономерностей через призму метельного сюжета. Однако сквозные для русской литературы XIX в. темы, образы и мотивы, проходя через ценностный фильтр автора, обманывают ожидания читателей, поскольку поведение чеховских персонажей не совпадает с поведением героев уже знакомых им «метельных» текстов.
В первом же из указанных рассказов – «Ведьма» – Чеховым задается явное несоответствие персонажей самой теме метели. Доминантным в изображении вьюги становится то инфернальное начало, которое вошло в литературу со стихами П.А.Вяземского, прошло через орбиту А.С.Пушкина, в игровой форме прозвучало у Н.В.Гоголя в «Ночи перед Рождеством» и воплотилось за семь лет до «Ведьмы» в сцене встречи Анны и Вронского на железнодорожной станции в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина». В рассказе Чехова звучит жалобная, тоскливая песня пушкинских бесов, а «жалобный плач» вьюги © Нагина К.А., 2010
отсылает к строкам из «Зимнего вечера». Обиталище персонажей рассказа вполне соответствует «печальной» и «темной» лачужке, в которой, в соответствии с пушкинским текстом, женщине отведено место у окна. Однако, как замечено Г.П.Козубовской и М.Бузмаковой, «Чехов переворачивает пушкинскую ситуацию “Зимнего вечера”, столкнув в пространстве сторожки далеких друг от друга людей, хотя и соединенных брачными узами» [Козубовская, Бузмакова 2008: 287]. Описание жилища и его обитателей последовательно депоэтизируется Чеховым. Особая роль в этом процессе отведена мотиву шитья, отсылающему к мифопоэтическому уподоблению творения вселенной и индивидуальной судьбы прядению. Прядение нити с помощью веретена замещает у Чехова родственный мотив – шитье: «Дьячиха шила из грубого рядна мешки» [Чехов 1955: 96]. Обращают на себя внимание растворение героини в этом процессе, его полная механизация и отсутствие какого бы то ни было творческого усилия: «Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали» [Чехов 1955: 96]. Через метафору «бытие как ткань» репрезентируется судьба, жизнь чеховской героини, подобные «грубому рядну» [Козубовская, Бузмакова 2008: 287]. И все же мотив шитья вписывает женщину в отличный от бытового контекст миропорождения, чему соответствует ее репрезентация как ведьмы, обладающей «сверхъестественной, дикой си- 131
лой», распоряжающейся «ветрами и почтовыми тройками» [Чехов 1955: 106-107]. Мотив шитья, прочитанный как сотворение судьбы, подготавливает появление персонажа, который мог бы соответствовать «мифологическому герою : победителю Минотавра Тезею, для которого Ариадна ткет свою спасительную нить, Ясону, плывущему за золотым руном, библейскому Гедеону, спасшему соплеменников от мадианитян» [Медведева 2010: 393]. Однако сама вероятность проявления подобной героичности изначально ставится под сомнение: ей противоречит «грубое рядно» жизни дьячихи и его синонимы – неоднократно упоминаемые в тексте всевозможные ткани, названные «безымянным тряпьем» [Чехов 1955: 105]. Особенно «странным», по замечанию автора, оказывается сочетание этого «тряпья» – «бесформенного некрасивого кома» [там же] «засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла» [там же: 95] и висящих на печке грязных «тряпок» – с «белой шеей и тонкой, нежной кожей женщины» [там же: 106]. Этому несовпадению героини со «сшитой» ею судьбой способствует инфернальный план рассказа, поддержанный поэтическим прочтением темы метели – «чьим-то» «плачем» «в печке, в трубе» [там же: 106], «тонким, звенящим стоном» [там же: 97] колокольчиков почтовой тройки.
Появление Героя подготавливает и мотив ожидания, устойчивый в описании Раисы Ниловны. Г.П.Козубовская и М.Бузмакова, отмечающие этот мотив, описывают несколько фольклорных архетипов, корреспондирующих с образом дьячихи. Особо значимыми представляются архетип «невесты, томящейся в ожидании своего жениха», и «спящей красавицы, ждущей быть разбуженной» [Козубовская, Бузмакова 2008: 289] его поцелуем. Архетип невесты вкупе с мотивами метели и сна создают балладный контекст происходящего. Развивая тему метели в русле балладной традиции, А.П.Чехов следует путем А.С.Пушкина, поддерживающего балладную атмосферу в повести «Метель», и Л.Н.Толстого, использующего балладное начало в «метельной» сцене родов княгини Болконской в романе «Война и мир». На присутствие архетипа баллады в «Ведьме» указывают Г.П.Козубовская и М.Бузмакова, чему, собственно, и посвящена их статья «Рассказ А.П.Чехова “Ведьма”: жанровый архетип». Чехов продолжает смещение балладного сюжета, начатое его предшественниками, инверсируя саму балладную логику. Если у Пушкина эта логика отзывается в «Метели» гибелью Владимира и мотивом «невинной вины», испытываемой Марьей Гаври- ловной [Иваницкий 1998: 8-9], а у Толстого смертью княгини Лизы, в метели обретшей своего мужа / жениха, то в чеховском повествовании, как отмечают авторы упомянутой статьи, «срабатывает прием ретардации – торможения, и разрешение действия, финальная точка, гибель откладываются на неопределенный срок» [Козу-бовская, Бузмакова 2008: 291]. Двоемирие, свойственное архетипу баллады, тоже «специфично: <…> оно сопрягает внутренние миры Савелия и Раисы, отраженные друг в друге» [Козубовская, Бузмакова 2008: 288].
Савелий убежден, что вьюга – дело рук жены, «чертихи» [Чехов 1955: 97]. «Непогоду» персонаж связывает с «игрой крови» в Раисе: в грозу, ледоход или метель в их дом «так и несет какого ни на есть безумца» [там же: 98]. Инфернальное начало в образе молодой женщины поддерживает ее взгляд. «Тусклый» и «неподвижный», он оживляется в ту минуту, когда за окном раздается «тонкий, звенящий стон» почтовых колокольчиков. Этот «неподвижный» взгляд вступает в диалог с заоконным пространством и магическим образом воздействует на него: «На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает <…> дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание» [там же: 96]. «В образе плачущей природы – предварение сюжета и анимистическое выражение плачущей души Раисы» [там же: 97], но еще большую смысловую нагрузку имеет блеск в ее глазах, с появлением посетителя превращающийся в огонь: «Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем» [там же: 103]. Взгляд Раисы Ниловны проявляет ее глубинное начало, первооснову – огонь. Взглядом она воздействует на окружающих, заставляя их таять. Подобно тому, как от одного «взгляда» на героиню тают заоконные снежинки, тает почтальон, привлеченный колдовским огнем: «Чуть не пропали!» – говорит он, входя в церковную сторожку. – Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы было» [там же: 100]. Подобный огонь привлекает заблудившихся в лесу персонажей волшебной сказки, и в таком случае избушка, к которой они выходят, оказывается не человеческим жилищем, а местом инициационных испытаний [Пропп 2005: 63]. Не только взгляд, но и тело Раисы излучает тепло: «Ему (почтальону. – К.Н.) было тепло стоять около дьячихи» [Чехов 1955: 104]. Чтобы гость «растаял», необходим визуальный контакт. Героиня действует вполне в духе гоголевских ведьм и другой нечистой силы, через взгляд выдающей свою демоническую природу: этот взгляд сосредоточен и неподви- жен, а «вперенные» глаза источают загадочный блеск, сверкают, светятся. «Именно долгий, неотрывный взгляд сосредотачивает в себе бесовскую власть над человеком, – замечает М.Эп-штейн, – этот мотив проходит и в “Страшной мести”, и в “Вии”, и в “Портрете”» [Эпштейн 2006: 114]. В «Вие» зрительный мотив становится главным: предводитель нечистой силы с железным лицом и опущенными веками не может увидеть Хому Брута, пока тот не взглянет на него. «Сам взгляд Хомы открывает его чудовищу – тот, кто смотрит, сам делается зримым» [там же: 115]. В рассказе Чехова Раиса Ниловна пристально смотрит в лицо заснувшего гостя своим «неподвижным» взглядом, что беспокоит Савелия: «Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем». Дьячок накрывает лицо молодого мужчины платком, «чтоб огонь ему в глаза не бил» [Чехов 1955: 103]. Когда тот открывает глаза, то видит, «как в тумане», «белую шею и неподвижный масленый взгляд дьячихи» [там же: 104]. Теперь, подобно гоголевскому Вию, она должна заставить гостя посмотреть себе в глаза, чтобы подчинить своей власти: «…дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть в душу» [там же: 104]. В итоге «почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда… все на свете» [там же: 105].
Огонь в образе дьячихи взаимодействует с другим первоначалом – водой. Замершая в состоянии ожидания, Раиса напоминает «красивый фонтан, когда он не бьет» [Чехов 1955: 96]. Подтверждает эту связь церковный календарь: все перечисленные Савелием эпизоды «колдовства» выпадают на церковные праздники, так или иначе связанные с первостихиями. Не только Савелий, но и другие чеховские персонажи живут не по «цифровому формальному календарю, а по святцам, по календарю церковных праздников». Эту особенность календаря писателя С.Сендерович объясняет тем, что жизнь в мире Чехова «проходит не во времени, размеченном абстрактными вехами, а во времени, наполненном конкретным значением, размеченном символами, несущими смысл, содержащим отсылки к историческим событиям и народным обычаям» [Сендерович 1994: 18]. Семантика церковных праздников, связанных с неожиданным появлением гостей, имеет непосредственное отношение к образу Раисы. Первым в этом ряду стоит «пророк Даниил и три отрока», на которых «в про- шлом годе» случилась метель. Центральным образом в истории пророка Даниила и трех отроков является образ пылающей печи, в которую по велению царя Навуходоносора были брошены Ананий, Азарий и Мисаил за нежелание поклоняться воздвигнутой им статуе. Пламя, по церковному преданию, поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая Его. Таким образом, персонажи этой истории проходят традиционное для героев волшебной сказки испытание огнем и подтверждают свои чудесные свойства.
Образ печи связывает ветхозаветную историю и будничное существование Раисы. Основное пространство церковной сторожки занимают печь и кровать – обиталище дьячка. С кроватью связан устойчивый мотив нечистоты: «немытые ноги» Савелия, «засаленное» покрывало. В этих приметах «нечистоты» Г.Козубовская и М.Бузмакова видят отражение хтонической природы персонажа: «В средневековой культуре сатана предстает хромым, именно это телесное увечье сатаны становится образом духовного изъяна, а у Савелия этот «изъян» выражается в немытых ногах»; «одеяло ассоциируется с саваном. Пестрота одеяла тоже дьявольской, хтони-ческой природы; оно, по всей видимости, скроено женой – в этом смысл выкраивания чужой судьбы. Кроме того, покрывало (одеяло) символизирует еще людское неведение и неверие» [Козубовская, Бузмакова 2008: 288]. Печь является вторым центром церковной сторожки, с ней связаны сама Раиса и гость из другого мира – почтальон. К печке он бросает свою одежду, туда же ямщик ставит тюки с письмами, на которых почтальон укладывается спать. Печь – символ домашнего очага, она же, согласно народнопоэтической традиции, осуществляет связь воды и огня. В волшебной сказке печь непосредственно связана с хозяйкой таинственной избушки, «дома в лесу», в котором герой проходит посвящение. Образ печи проецируется на Раису, в глазах которой горит огонь, а тело излучает тепло. Однако печь в церковной сторожке не чище кровати: она такая же засаленная, грязная, «темная… с горшками и висящими тряпками» [Чехов 1955: 105-106].
Второй эпизод «колдовства» приходится на «Алексея, божьего человека», «когда реку взломало, урядника принесло» [Чехов 1955: 98]. Урядника действительно «принесло» «взломанными» водами реки, потому что день памяти Алексея, божьего человека, знаменуется обильным таянием снегов. Этот день называется в на- роде «Алексей – с гор вода», про него говорят: «Алексей – из каждого сугроба кувшин пролей».
И, наконец, в промежуток между Спасами «два раза гроза была, и в оба раза охотник ночевать приходил» [Чехов 1955: 98]. Первый Спас – Медовый – связан с малым водосвятием: на него совершают крестный ход на родники и водоемы, освещают новые колодцы и чистят старые. Грозовая туча, как и печь в локусе дома, объединяет два начала: воду-дождь и огонь-молнию.
Вода и огонь, как стихии первотворения, актуализируют в чеховской героине женское, эротическое начало. Огонь отражает высшую степень проявления качества: внутреннее горение Раисы прочитывается как огонь неудовлетворенного желания, как жажда интенсивности бытия. Традиционно мотив сияния огня корреспондирует с женским началом, нередко с «инфернальной его стороной. Античное философское учение рассматривает воду в структуре космоса как модификацию огня». Вода –«динамическая стихия, вступающая в различные соединения с другими элементами мира, вещество, принимающее разнообразные формы <…> Актуализация женского начала предопределяет такое качество воды, как переход в иные субстанциональные состояния, различного рода метаморфозы» [Козубовская 2005: 79]. Как отмечает Г.П.Козубовская, «по библейской традиции водная стихия тесно связана с преисподней»; «ассоциации женщины с преисподней возникают вследствие понимания женской природы как источника любовных чар, а женщины как блудницы» [там же: 80]. Именно так судит о природе своей жены дьячок Савелий Гыкин: «Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! <…> не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! <…> Как в тебе кровь начинает играть, <…> так и несет сюда какого ни на есть безумца» [Чехов 1955: 99].
Актуализация женского начала, связанная с метафорами воды и огня, обращает к мотиву инициационного испытания, которое проходит персонаж волшебной сказки у хозяйки «лесного дома». Ситуация сказочного испытания связывает рассказ Чехова с «Метелью» и «Капитанской дочкой» Пушкина, в которых, как пишет А.И.Иваницкий, «вторжение зимней предвечной природы (движущей стихии и питающей почвы) превращает дворянского героя любовного романа в героя волшебной сказки» [Иваницкий 1998: 30]. В литературоведении неоднократно отмечалась связь «метельных» рассказов А.П.Чехова с пушкинскими «метельными» текстами. По мнению А.С.Собенникова, «в творчестве А.П.Чехова сюжетная ситуация пушкинской «Метели» ис- пользуется дважды: в святочном рассказе «То была она!» (1886) и в рождественском рассказе «На пути» [Собенников 1998: 137]. Как «художественный отклик» на «Метель» воспринимает рассказ «То была она!» и А.Г.Головачева [Головачева 1998: 175]. Однако к двум названным рассказам нужно добавить и «Ведьму». У Пушкина заблудившийся в степи Бурмин выезжает к одинокой церкви, где обнаруживает ждущую жениха невесту, совершает свадебный обряд и становится ее мужем. Бурмину, по словам А.И.Иваницкого, «наследует» Гринев: «Их «служебно-авантюрные» странствия, кончаемые на одном из рубежей выбором невесты, начаты схожими «приключениями». Первая встреча Гринева с Пугачевым в степи, прелюдия «пророческого сна», подобна путешествию Бурмина в метель. Оба «буранных» путешествия ведут к счастливому браку» [Иваницкий 1998: 18]. У Чехова молодой почтальон, заблудившийся в степи, выезжает к церковной сторожке, которая находится рядом с одинокой церковью. В этой сторожке он обнаруживает молодую женщину, хотя и замужнюю, но ждущую своего истинного жениха. Рассказ Чехова повторяет ситуацию «сказочного (инициационного) испытания», связанного у Пушкина с вторжением стихии. Одинокую церковь в «Метели» А.И.Иваницкий отождествляет со «сказочным “домом в лесу”» – местом преодоления сказочным героем испытаний и выбора будущей невесты: «…стихия про-лагает герою новую, “авантюрную” дорогу к альтернативной “станции”: церкви в лесу, месту скрытого “выбора невесты”» [там же: 7]. На этом сходство заканчивается. В «Ведьме» присутствуют все основные атрибуты инициации, что свойственно и другим произведениям писателя, к примеру, «Дому с мезонином» и «Именинам» [Ибатуллина 2006]. Сюжетная схема таких рассказов «сводится к преодолению героями разного рода препятствий, причем доминантная роль отводится женскому персонажу. Наиболее развитый инвариант сюжета заканчивается бегством героев из заколдованного пространства» [Олейник 2010: 189]. Не выдержавший испытаний «чеховский герой оказывается не образом сказочного персонажа, а его анти-образом, а точнее, образом анти-образа» [Ибатуллина 2006: 68]. Нечто подобное происходит и в рассказе «Ведьма».
Посетитель церковной сторожки проходит ряд традиционных для волшебной сказки испытаний: сном, едой и огнем. Сон в волшебной сказке, в трактовке В.Проппа, «связан с мотивом бабы-яги»: она налагает запрет на сон героя, но уже «самый лес», в котором стоит ее избушка, «вызывает неодолимую дремоту» [Пропп 2005:
-
161] . Сказочному герою удается или преодолеть сон, или обмануть ягу, чего нельзя сказать о персонаже чеховского рассказа. Он даже не пытается бороться со сном, а моментально засыпает на тюках с письмами. Его пытается разбудить Савелий, но герой упорно не хочет просыпаться: «Почтальон вскочил. Сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег» [Чехов 1955: 103]. Не выдерживает он и второго испытания: едой. Яга всегда поит-кормит своего гостя, это ее «постоянная, типическая черта» [Пропп 2005: 161], и он всегда угощается, что также является непременной частью инициационного обряда. Дьячиха дважды предлагает почтальону «покушать» чаю, второй раз – заглядывая ему в глаза, однако ее попытки не приносят результата. Подобное прочтение эпизода несостоявшегося чаепития дополняет его трактовка как культового акта «жертвоприношения и обмена сущностями», развернутая в статье Г.П.Козубовской и М.Бузмаковой. В этом смысле «“чай” – чеховская модель тоски по любви» [Козубовская, Бузмакова 2008: 290 – 291].
Третий, самый значимый этап посвящения – испытание огнем. В сказках прошедший через его очистительную стихию перерождается, нередко обретая молодость и даже бессмертие. В мифах богини погружают детей, рожденных от смертных, в огонь, чтобы выжечь их смертную природу. В русских сказках главным атрибутом этого обряда является печь: В.Пропп указывает на те сказки, в которых «лесные учители» бросали мальчиков в печь, чтобы наделить их чудесными способностями [Пропп 2005: 79]. Связь Раисы с огнем и печью вовлекает ее гостя в очередное испытание: женщина разжигает в нем огонь желания, однако тот гаснет, едва успев разгореться: «Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик <…> Почтальон постоял немного <…> и пошел за ямщиком» [Чехов 1955: 105].
Гость последовательно отвергает три испытания, выявляя свое несоответствие ожидаемому Раисой герою; не состоялось и его награждение, которое производится ягой или царевной в зависимости от типа волшебной сказки [Пропп 2005: 60]. Сама дьячиха, испытующая героя, наделена чертами и яги, и царевны. Ее, как царевну, заточенную в тереме, прячут от людского взора, и она ждет своего героя-избавителя. Обладает Раиса и главным атрибутом царевны: длинной косой, «местонахождением магической силы» [там же: 26]. В этом контексте дьячок соответствует представителю нечистой силы, охраняющему царевну: о его хтонической природе свидетельствуют не только «немытые ноги», но и рыжий цвет волос, который отсылает к архетипу домового [Козубовская, Бузмакова 2008: 288]. «Две кулдышки» связывают Савелия и с образом яги, костеногость которой объясняется «тем, что она никогда не ходит. Она или летает, или лежит, то есть внешне проявляет себя как мертвец» [Пропп 2005: 53]. То же делает и Савелий: лежит на огромной кровати, выставляя из-под одеяла свои «кулдышки».
Ситуация инициационного испытания обнажает несостоятельность «белокурого молодого почтальона», который оказывается ложным героем. Появление гостя в церковной сторожке подает первоначальные надежды на его «героич-ность»: сюда его привела метель и привлек огонь, у него имеется сабля, один из непременных атрибутов персонажей подобного рода: «… на этот раз внес почтальонскую саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картнках Юдифь у гроба Олоферна» [Чехов 1955: 101]. Однако сабля – лишь грубая подделка под меч героя, она всего-навсего «почтальонская». Почтальон – не Олоферн, завоевавший родной город Юдифи. Ему не до завоеваний, хотя то поле брани, каким могла бы стать церковная сторожка, не требует излишней героики. Страстная натура дьячихи вполне допускает ее сравнение с Юдифью, за тем исключением, что ей нечего терять: церковная сторожка и уродливый муж не являются тем достоянием, которое ей хотелось бы защищать. В отсутствие героя Раиса продолжает играть роль заключенной в терем царевны, чем весьма доволен охраняющий ее муж. Ему-то как раз удается выполнить функции охранителя и еще раз убедиться в магической силе супруги: «Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтальонскими тройками, в этом уж он не сомневался. Но к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественность, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть <…> оттого, что он <…> опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее…» [там же: 106-107]. Дьячок Савелий оказывается тем единственным, кто понимает настоящую природу своей жены и, соответственно, проходит инициационные испытания: и запретом сна (имевший «обыкновение засыпать в одно время с курами» [там же: 95], он мужественно борется со сном и еще долго не спит после того, как заснула дьячиха), и огнем – не только посыпавшимися из глаз искрами, но и
«пыткой» огненного желания. В рассказе «Ведьма» С.Сендерович обнаруживает «интенсивно эротические страницы», но отмечает, что, как и в других произведениях Чехова, «столкновение с чувственностью и эросом <…> является чем-то пугающим или даже ведет к истерической реакции» [Сендерович 1994: 117]. Отношение дьячка к жене Раисе не умещается, с точки зрения исследователя, «в рамки рационализации: мол, дьячок проецирует таким образом свою неполноценность перед лицом сексуального аппетита жены или возмещает свое унижение перед лицом ее интереса к другим мужчинам. Здесь есть что-то более изначальное, глубинное, непосредственное». Лубочная картинка, изображающая Юдифь у ложа Олоферна, превращается в «символ, под которым рассказчик разворачивает образ дьячихи» [там же: 118-119] (курсив автора. – К.Н. ). Так в «Ведьме» заявляет о себе эротический мотив, введенный в «метельный» текст Л.Толстым в «Анне Карениной». Этот мотив отвечает инфернальному началу метели и связан с раздвоением персонажа: Анна, охваченная любовью-страстью к Вронскому не понимает, «она это или другая», Савелий Гыкин раздваивается в ненависти-страсти к своей жене-ведьме. Эротическое начало, связанное с метелью, получает у Чехова оригинальную трактовку, заключающуюся не только в снижении персонажа, охваченного сильными чувствами, но и в «негативной реакции на эротические импульсы», которую С.Сендерович считает «редкой в литературе, отличительно чеховской чертой» [там же: 124].
С Савелием связан и другой мотив, также вошедший в «метельный» текст вместе с Толстым: мотив разрушающегося дома. У Толстого дом разрушается как изнутри, разрываемый негативной энергией его обитателей, так и извне, под ударами стихии / судьбы, а метель символизирует этот процесс. Вторжение хаоса в дом Гыкина отмечено Г.П.Козубовской и М.Бузмаковой: «…хаос вторгается благодаря “знанию” дьячка об истинной сути его жены. Окончательного смешения хаоса с космосом или победы хаоса не происходит: к радости дьячка, почтальон-бес уезжает <…> результат вторжения хаоса в космос – болезненные переживания обоих супругов: дьячок страдает от того, что его космос нарушен, дьячиха – что этот космос разрушен не до конца». Мотив разрушающегося дома у Чехова также переиначивается: «…архетипическое значение мотива дома сохраняется в точке зрения дьячка Савелия Гыкина, над которым автор иронизирует, инверсируется же архетип в точке зрения дьячихи» [Козубовская, Бузмакова 2008:
-
292] . Так Чехов переосмысляет толстовский «метельный» сюжет.
Вернемся к ситуации сказочного испытания, обнаруживающей себя в «метельном» сюжете Пушкина и Чехова.
Повторяя, вслед за Пушкиным, ситуацию сказочного испытания, Чехов заставляет своих персонажей действовать вопреки канону, установившемуся и в сказке, и в литературной традиции. У Пушкина, согласно А.И.Иваницкому, «стихия питает желания героя и дает ему волю к их осуществлению» [Иваницкий 1998: 29]. Петруша Гринев умудряется соединить «хочу» и «надо», и в этом ему помогает Маша Миронова, «выбранная и обретенная невеста». Шпага героя является одновременно и символом «дворянской чести и верности сюзерену», и «символом верности куртуазной» [там же: 29]. Лубочная сабля «белокурого почтальона» воспринимается как пародия на шпагу Гринева и выступает символом мнимой чести персонажа: почтальон не хочет опоздать к поезду, и служебный долг предпочитает «обретению» невесты. Псевдогерою не хватает духу объединить честь и любовь, да и верность долгу оказывается весьма условной: его поспешный отъезд напоминает бегство. Если пушкинскому герою природа-стихия «пролагает альтернативный служебному авантюрный путь», смысл которого – в «преодолении рутинных свойств почвы» [там же: 30], то чеховский герой не слышит зова стихии, не принимает ее помощи и затягивается рутиной – той, по его словам, «собачьей жизнью», которую он не в силах изменить. Таким образом, сама ситуация метели выявляет духовную несостоятельность ее участников.
Чехов не ограничивается только пушкинскими реминисценциями, он развивает одну из вариаций темы метели – «страшной бури» в «страшную ночь», в которой вьюга прочитывается как страсть. Ряд образов и мотивов связывают «Ведьму» со сценой встречи Анны и Вронского на железнодорожной станции в романе «Анна Каренина»: Чехов явно вступает в диалог с Толстым, первым утвердившим подобный сюжет в прозе. В первую очередь это касается мотивов окна и огня, сопровождающих тему метели у Толстого. Оба мотива связаны с героинями: дьячиха сидит у окна церковной сторожки, ее работу освещает тусклая жестяная лампа; Анна сидит у окна вагона, книгу, которую она читает, освещает «тусклый фонарик». «Красный огонь» ослепляет Анну через окно. «Нравственный» термометр Анны измеряет «градус» ее стыда: «…чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспоминала о Вронском, говорил ей: «“Тепло, очень тепло, горячо”» [Толстой 1981: 114], что соответствует «теплу», излучаемому телом Раисы: «Ему (почтальону. – К.Н.) было тепло стоять около дьячихи» [Чехов 1995: 104]. Печь фигурирует в «метельной» сцене «Анны Карениной» посредством истопника, который проверяет показания термометра и переходами от «парового жара к холоду и опять к жару». «Горячечное» состояние Анны совпадает с состоянием дьячихи, особенно если учесть эротический контекст толстовского повествования, как, скажем, это делает Р.Густафсон, предлагая психоаналитическое прочтение сцены: «Поездка на поезде – это путешествие в себя. Красный мешочек – сосуд желаний Анны: там ее подушка, английский роман с сюжетом-мечтой и нож, разрезающий надвое (Вронский). Старуха и ее ноги, занимающие пространство и пачкающие все вокруг, воплощают животное «я» Анны: истопник-кондуктор, закутанный, грызущий стенку и кричащий над ее ухом, – это голос грызущей ее совести <…> Прибытие поезда на станцию – это, конечно же, страсть...» [Густафсон 2003: 307]. «Яркий блеск» лица Анны, напоминающий «страшный блеск пожара среди темной ночи», отзывается «горящими», «блестящими» глазами дьячихи; а «чуждое бесовское и прелестное» в Анне – «дьявольским», «бесовским», «ведьминским» в чеховской героине. «Пачкающие все вокруг» ноги старухи в вагоне Анны зеркально отражаются в чеховском тексте не только в уже упомянутых «давно немытых ногах» Савелия, но и во «вздрагивающей ноге» почтальона, в его «мускулистых стройных ногах», «которые были красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия» [Чехов 1955: 103]. Любопытно, что мужа Анны, Алексея Александровича Каренина, тоже сопровождает мотив ног. Когда Вронский видит его, выходя из вагона, он испытывает неприятное чувство: в глаза ему бросается «походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами». «Тупые ноги» Каренина определенно откликаются «немытыми» «кулдышками» Савелия Гыкина. Подобному снижению в чеховском тексте подвергается не только муж героини, препятствующий осуществлению любви / страсти, но и главные персонажи «метельного» сюжета: героиня и ее потенциальный возлюбленный.
Молодой почтальон, «в истасканном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах», «красивое лицо» которого несет на себе следы «недавних физических и нравственных страданий» [Чехов 1955: 100], пародийно соотносится с Вронским, его «добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом», с его «широким с иголочки новым мундиром» [Толстой 1981: 61]. Выражение «почтительного восхищения» Анной на лице Вронского, его спокойная уверенность трансформируются в «испуганные» движения почтальона, когда он, «словно желая бежать или спрятаться, взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и нагнулся над лампой, чтобы потушить огонь» [Чехов 1955: 105].
Вследствие этой депоэтизации из толстовской метели-страсти, метели-судьбы выхолащивается сама суть. Если огонь в глазах Анны свидетельствовал о ее неординарности и предрекал трагический исход в поединке с надличностным законом, с судьбой, а метель связывала инфернальное начало в природе с инфернальным началом в ее душе, то блеск глаз Раисы Ниловны говорит лишь о неудовлетворенности ее эротических желаний. Страсть из бытийного контекста переводится в бытовой, превращаясь в похоть. Чехов своим рассказом демонстрирует, как измельчал прежний персонаж «метельного» текста. «Молодой белокурый почтальон» с «искривленным злобой» красивым лицом, не способный удовлетворить даже самые банальные свои желания, с атрибутом подлинного героя – бесполезной «лубочной» «почтальонской» саблей – лишь жалкая пародия на Бурмина, Гринева, Вронского. Раисе Ниловне, чье инфернальное начало сводится к сжигающему изнутри огню эротического желания, несостоявшейся Юдифи, не дождаться своего освободителя: все посетители церковной сторожки подобятся псевдогерою с игрушечной саблей. В этом смысле не случаен онерийческий код рассказа, свойственный и жанровой модели баллады, и сюжету метели. В отличие от своих предшественников, Чехов не дает описания сновидений персонажей (а спят в рассказе и гость, и хозяйка): самый процесс сна, опираясь на понятие интенсивности бытия, рождает ощущение невыносимой замкнутости существования. Природная стихия, как и в былые времена, является знаком возможности изменения судеб, однако персонажи не способны принять ее «материнскую», путеводительную помощь. Инверсия метельного сюжета, несовпадение мифологического и сказочного планов с действительностью призваны продемонстрировать, что «героем эпохи оказывается личность, лишенная героического начала, не способная стать героем в классическом смысле слова» [Ибатуллина 2006: 68].
-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (Рособразования) в рамках исследовательского проекта 2.1.3/4704 «Универсалии русской литературы (XVIII – начало XX вв.)»
Voronezh State University
Список литературы Семантика метели в рассказе А.П. Чехова «Ведьма» (пушкинский и толстовский коды в авторском преломлении)
- Головачева А.Г. Повести Ивана Петровича Белкина, «пересказанные» Антоном Павловичем Чеховым//Чеховиана: Чехов и Пушкин. М.: Наука, 1998. С. 175-191.
- Густафсон Р.Ф. Обитатель и Чужак: теология и художественное творчество Льва Толстого. СПб.: Академический проект, 2003. 480 с.
- Ибатуллина Г. Человек в параллельных мирах: художественная рефлексия в поэтике чеховской прозы. Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акад., 2006. 200 с.
- Иваницкий А.И. «Зимний путь» у Пушкина («национальная природа» -кухня истории как культуры)//Slavica tergestina. 1998. № 6. С. 5-36.
- Козубовская Г.П. Поэзия А.А.Фета и мифология. Барнаул: БГПУ, 2005. 256 с.
- Козубовская Г.П., Бузмакова М. Рассказ А.П.Чехова «Ведьма»: жанровый архетип//Культура и текст. Барнаул: БГПУ, 2008. С. 287-298.
- Медведева Н.Г. «Сюжет Филомелы» в поэзии О.Седаковой//Кормановские чтения: Статьи и материалы Межвузовской научной конференции. Ижевск: УдГУ, 2010. С. 388-398.
- Олейник А.И. Проблемы мотивно-жанровой структуры в рассказе А.П.Чехова «Именины»//Кормановские чтения: статьи и материалы Межвузовской научной конференции. Ижевск: УдГУ, 2010. Вып. 9. С. 187-196.
- Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2005. 332 с.
- Сендерович С. Чехов -с глазу на глаз. История одной одержимости. Опыт феноменологии творчества. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1994. 288 с.
- Собенников А.П. Судьба и случай в русской литературе: от «Метели» А.С.Пушкина к рассказу А.П.Чехова «На пути»//Чеховиана: Чехов и Пушкин. М.: Наука, 1998. С. 137-144.
- Толстой Л.Н. Анна Каренина//Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1981. 495 с.
- Чехов А.П. Ведьма//Чехов А.П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1955. С.95-108.
- Эпштейн М. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. М.: Высшая школа, 2006. 539 с.