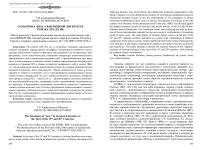Семантика "нео -" в немецкой литературе рубежа XIX-XX вв
Автор: Кудрявцева Тамара Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
На рубеже XIX-ХХ вв. в литературе Германии зарождаются главные тенденции, определившие специфику литературного развития в последующие десятилетия. Одним из факторов, обусловивших его историческую конфигурацию, стали дихотомические отношения литературы конвенционального, традиционного типа и литературы модернистской. С противоборством двух парадигм художественного сознания и связан главным образом вектор литературного развития в Германии ХХ в. Новая литература, заявившая о себе в начале 1880х гг., была направлена против лишенной актуальности и художественной новизны массовой литературы эпохи грюндерства. «Новое» рождалось не только в отталкивании от старого и отжившего, но и в противоборстве соперничающих между собой стилей и направлений тех лет. Главная особенность немецкого литературного процесса конца XIX - начала XX в. - разновекторное сочетание компонентов художественной системы, проявившее себя в чрезвычайной неоднородности ее структуры, в причудливом соединении эстетических новшеств с переосмысленным опытом прошлых эпох. В статье предпринята попытка выявить семантические признаки «обновленческого» характера немецкой литературы на рубеже XIX-XX вв., развивавшейся в условиях формирования художественно-эстетического вектора модернизма.
Немецкая литература, литературный процесс, модернизм, художественная система, стиль, направление, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/149127164
IDR: 149127164 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00051
Текст научной статьи Семантика "нео -" в немецкой литературе рубежа XIX-XX вв
Лексема «modern» (от лат. modernus, новый) в качестве прямого заимствования из французского как антоним к «античный, древний» возмещала недостающее семантическое звено прилагательных «jetzig», «ge-genwartig», «zeitgenossisch» (теперешний, настоящий, современный). Хронологическому индикатору, относящему произведение искусства к определенному отрезку времени, таким образом, противополагалось понятие качественного, эстетического порядка.
В 1880-е гг. для молодых литераторов, «самых молодых» (die Jungsten) [Leixner 1885, 140-144], как они себя называли, термин служит синонимом «нового», «инновативного» искусства, отвергающего классические каноны, тематизирующего современную жизнь и направленного в первую очередь против литературы культурно-исторической эпохи грюндерства 1870-х гг, обращавшей свои взоры к прошлому
«Современность» (Modernitat), сопрягаемая также с признаками актуальности и злободневности, органично включала в свою атрибуцию и семантику «реалистичности». В терминах «реализма» определяет новое искусство один из теоретиков нового направления, В. Бельше [Bolsche 1887]. В статьях о реализме находит выражение и кредо участника движения, К. Альберти [Alberti 1889, 49-58]. Современный исследователь В. Фендере отмечает подобное словоупотребление у К. Блейбтроя, Ю. Хилле -брэнда и др. [Fahnders 1998, 18]. Лишь в 1890-е гг, когда движение идет на спад, термин «реализм», по сути получивший наряду с «модернизмом» (die Moderne) статус самоидентификатора, отражавшего один из базисных компонентов художественного сознания «самых молодых», постепенно вытесняется «натурализмом». В этой связи можно говорить о литературе «самых молодых», по сути, как о «неореалистической». Примечательно, что ее наиболее радикальные образцы с легкой руки Г. Гауптмана оценива- лись в терминах «последовательного реализма» (Konsequenter Realismus) [Holz 1925, 121].
Прежде всего «самые молодые» радикализуют содержание реалистического искусства. Заостряется уже присутствовавшая в литературе проблематика: большой город, маленький человек, критика неприглядных сторон буржуазного общества (упадок нравственных устоев, лживая мораль и пр.).
К заслугам последовательных реалистов можно отнести и осознание того, что прежние способы художественного освоения действительности себя исчерпали. Новое творческое сознание столкнулось с необходимостью искать новые поэтические средства, адекватные духу времени, меняющимся представлениям о человеке и окружающем его мире. Это в полной мере отвечало требованиям разработки концепта «современность». В нем, как указывает современный компаративист Х.У. Гумбрехт, актуализируется звено, в котором соотносятся не прошлое и настоящее, а настоящее и вырастающее из него будущее [Gumbrecht 1978, 121]. Другими словами, речь идет о слиянии модернистского и авангардистского ракурсов в художественном видении мира. Не случайно писателю вменяется в обязанность «по-боевому прокладывать пути будущему» [Anonym 1886, 810], те. новому. В 1891 г. журналист Ф.М. Фельс определит специфику времени как «рубеж двух миров», рассматривая предначертанную им роль как «подготовку грядущего величия», о котором еще никто не имеет ни малейшего представления [Feis 1891, 81].
Главное значение экспериментальных по своей природе произведений поколения «самых молодых» стало понятным спустя десятилетия. Определяя разницу между текстом модернистского типа и текстом традиционным, современные исследователи выделяют в качестве основного признака нарративной трансформации изменение перспективы повествования, ее смещение от центра - автора, на периферию - к персонажам. При подобной расфокусировке позиция автора приобретает характер очуждающего иронического жеста. Так, рассказ «Папаша Гамлет» А. Хольца и И. Шла-фа [Bjarne 1889] начинается с иронического (пародийного) цитирования шекспировского «Гамлета», провокативно снимающего ожидаемый налет сентиментальности в описании жалкого существования героя, в бытность знаменитого актера [Burns 1981]. Это, а также передача внутреннего состояния через внешние проявления; ассоциативный принцип построения текста; панорамность (стремление охватить одновременно как можно больше объектов); симультанность; незавершенный, фрагментарный характер текстов, изображавших «кусок жизни» (что изначально не предполагало сюжетного оформления) есть не что иное, как предвосхищение модернистского письма первой (Ф. Кафка, А. Дёблин и др.) - и экспериментов в области прозы второй (Г. Хайсенбюттель, В. Вондрачек и др.) половины XX в.
Не менее очевидны обновленческие тенденции и в драматургии. Для структуры натуралистических пьес характерна редукция драматического 292
действия в пользу эпического описания среды и психологической обрисовки персонажей, которые уже не определяют ход действия, а сама среда становится фактором, «порождающим драматическое действие» [Glaser 1982, 193], например, восстание силезских ткачей 1844 г. в пьесе Гауптмана «Ткачи» («Die Weber», 1892). По своей внутренней структуре драма приближается к модернистскому типу текста: характеристики персонажей определяются не личностными параметрами, а выводятся из некоей коллективной деятельности, оказываются интегрированными в «жестовую» парадигму поведенческих мотивов, вытесняющую традиционный центр произведения, соотносимый с главным героем. Не случайно Б. Брехт, весьма критически оценивавший содержательную сторону произведений натуралистов, не видя в них целеустановки на глубинное постижение изображаемой действительности, впоследствии назвал натуралистическую драму преддверием европейского эпического (жестового) театра [Meyer 2000, 76].
О жанровой трансформации, характерной для эпохи рубежа XIX-XX вв., свидетельствует, в частности, «воровская комедия» Г. Гауптмана «Бобровая шуба» («Der Biberpelz. Eine Diebskomodie», 1893). По сути -это образец гротескной «мировоззренческой» [Карельский 1978, 298-303] («тотальной») [Andreotti 2000, 46] пародии XX в., обращенной к обществу, нормы и понятия которого вступают в противоречие со здравым смыслом.
Особое значение для развития модернистской техники письма приобретает и другая пьеса Гауптмана, «Крысы» («Die Ratten», 1911). Описание нужды, царящей в низших слоях общества, сопряжено здесь с карикатурным наложением на современную действительность ценностей прежнего времени, которые продолжают служить бутафорским реквизитом, не только украшая «виртуальную» (театральную) реальность, но и контрастируя с реальной жизнью. Несоразмерность разыгравшейся жизненной трагедии (отчаяние матери, у которой похитили ребенка) с театральными тирадами актеров, на фоне хора из «Мессинской невесты» Шиллера ведущих спор о возможности трагического в повседневной жизни, превращает драму Гауптмана в пародию на классический жанр в духе веяний эпохи (Ф. Ведекинд, К. Штернхайм и др.). В данном случае можно говорить о модернистской трагикомедии как разновидности жестовой (очуждающей) драматургии. Соединение трагического и комического в гротескной форме приобретает форму парадокса, «когда воскресший не верит в свое воскрешение» [Durrenmatt 1972, 173].
Тенденция переходности от традиции к новации характерна и для поэзии «самых молодых». В ходе работы над поэмой «Фантазус» («Phanta-sus», 1898-1899) А. Хольц выявляет сущность «необходимого ритма» (der notwendige Rhythmus) [Holz 1899, 26], который во многом определит пути развития немецкого стихосложения в XX в.: для любого явления внешней действительности и внутреннего мира человека в каждый определенный миг существует своя оптимальная форма выражения, и задача художника - найти ее в арсенале поэтических средств, либо создать новую.
Несколько позже Г. Бар даст следующее истолкование понятия «современный» (modern): «Быть современным значит суметь разрешить конфликт между новым содержанием и старой формой в пользу новой формы, адекватной мировоззрению эпохи» [Bahr 1923, 221]. Это положение применимо к так называемым постнатуралистическим течениям рубежа XIX-XX вв. (импрессионизм, неоромантизм, символизм, и др.).
Так, импрессионизм правомерно рассматривать в семантическом поле неореалистических (неонатуралистических) исканий. Он может быть определен прежде всего как неопозитивистское «преодоление» натурализма. Бар, одним из первых подвергнув критике позитивистскую ограниченность натурализма, связывает импрессионизм с обновлением психологического метода и распространяет «правду жизни» натуралистов на внутренний мир человека («правда чувства») [Bahr 1891]. Если для натурализма «мир внутренний есть лишь маленькая производная часть большого чувственно-предметного мира, всецело подчиненная его законам», то для Бара «<...> не душа вписана в большой чувственно-материальный мир, а этот мир вписан в необъятное пространство души и может быть в любую минуту затоплен иррациональной стихией космической жизни» [Жеребин 2010, 34]. Внешние события и явления жизни уже не провоцируют художника на их художественное моделирование, а лишь исполняют роль генератора переживаемого мгновения.
Главная особенность импрессионистической литературы - наметившееся еще в натурализме размывание традиционных жанров. Это проявляется как на уровне сюжетной организации произведения (отсутствие развертывания сюжета), так и в синтаксических особенностях текста. Отпадает необходимость в организации текста по правилам традиционного повествования, жанрово-сюжетная логика которого обусловлена линейными причинно-следственными отношениями. На первый план выступает ассоциативный принцип композиционных связей, в основе которых лежит поток сенсорных впечатлений от внешней действительности, рождающих в сознании реципиента те или иные мысли, настроения, образы.
Любопытно обозначение Баром немецкого символизма рубежа веков как «новый символизм» [Bahr 1892, 576]. Г. Манн характеризует его, словно в пику декларативным заявлениям теоретиков и практиков символизма о принципиальном антимодернизме своего творчества, в терминах «нового, самого “современного” тона» [Mann 1980, 232]. Под последним подразумевается продолжение психологизма француза П. Бурже. По мнению Г. Манна, символисты превосходили Бурже тем, что их интересовали «нервы не только жертвы (персонажа. - Т.Н.), но и наблюдателя» (читателя. - ТК.) [Mann 1980, 232].
Если же принять во внимание точку зрения немецких ученых, что европейский символизм в романских литературах явил себя «запоздавшей и отчасти насильственной реализацией немецкой романтической традиции» [Wilpert 2001, 802], и учесть тот факт, что «традиции неоплатонизма и философии Я. Бёме» [Цветков 2016, 249], без которых трудно предста- вить символизм в Германии, были широко представлены в немецком романтизме, то логично рассматривать творчество символистов на рубеже XIX-XX вв. в границах неоромантизма.
Специфика немецкого неоромантизма в целом определялась влиянием современной европейской культуры модернизма, прежде всего его эстетики. Не случайно Г. Манн использует термин «новая романтика» (Neue Romantik) в одноименной статье 1892 г. как синоним для обозначения новых художественных веяний, сменивших реалистические тенденции в искусстве второй половины XIX в. Э. Кирхер трактует «неоромантику» в терминах «безгранично широкого», куда попадает все, что находится в стадии становления и движется в сторону «нового идеализма в искусстве» [Kircher 1903, 1122].
Наиболее четко эти идеи сформулированы в трудах философа Г. Зиммеля. Сама «философия жизни», одним из представителей которой значится Зиммель, оказывается причастной к выработке культурно-мировоззренческих постулатов неоромантического искусства. «Жизнь», по Зиммелю, - «процесс творческого становления» [Simmel 1922, 1122]. Примечательна его мысль о «трагедии творчества», обусловленной невозможностью уложить энергию творческой личности в прокрустово ложе устоявшихся форм в искусстве [Simmel 1922, 1122]. Один из способов достижения свободы личности, по Зиммелю, - деятельная духовная жизнь человека, частью которой служит культура [Simmel 1900]. Эти мысли перекликаются с идеями Ф. Ницше, «дионисийско-аполлинийская трактовка творчества» которого может рассматриваться как попытка «представить искусство символом <...> вечного становления» [Цветков 2016, 253]. В 1920-е гг. точку зрения приверженцев «нового идеализма» рубежа веков будет отстаивать Э.Р. Курциус. В его толковании неоромантизм еще раз предстанет как явление возрожденческое и обновленческое [Curtius 1981].
В унисон с символистской риторикой отторжения модернистского вектора развития искусства о своем неприятии «нового» заявили создатели областнической (почвеннической) литературы и неоклассицизма. Подобно символистам, они открыто противостоят «модерности» и обращают взоры к традиции. Так, в содержательном и стилистическом плане областническая литература продолжает традиции деревенского романа и деревенской повести, получивших большое распространение в бюргерском реализме XIX в. Весьма примечательно, тем не менее, определение писателем М.Г. Конрадом отечественного реалистического романа своего времени как «современного» [Conrad 1885]. В понятие «современность» Конрад среди прочего вкладывает вовлеченность литературы в общественно-политическую жизнь. Действительно, в рамках движения «родное искусство» реальность все чаще отходит на задний план, вытесняясь односторонней мифоидеализацией внеисторической сельской жизни. Однако по мере развития в деревне капиталистических отношений социальные иллюзии у многих авторов крестьянских романов терпят крах. Усиление критической направленности подобных произведений, их сатирической, порой гротескной, тональности позволяет говорить о вкладе областнической литературы в обновление реалистической нео-матрицы, уходу из немецкой литературы «нежного реализма» [Bayertz 1984, 92].
После 1900 г. прямой реакцией на новые веяния модернизма, помимо областнической литературы, явился неоклассицизм (Neuklassik). Отказывая модернизму в способности преодолеть узкие рамки капиталистической действительности, теоретик и практик неоклассицизма, литературный критик С. Люблинский и создатель марксистской эстетики Ф. Меринг, не сговариваясь, видят возможность достижения настоящей эмансипации на путях создания нового классического искусства, приближения к «новому классическому веку» [Lublinski 1909]; [Mehring 1892].
Тем не менее, несмотря на то, что неоклассицизм, отмежевываясь от модернизма, черпает вдохновение в предромантических эпохах, пытаясь с помощью проверенных жизнью художественных форм вернуть немецкому обществу веру в утраченные нравственные идеалы, при близком рассмотрении его теория и практика во многом укладываются в общее русло развития модернистского искусства, по сути, находясь в сфере его инновативной нормативности. На фоне разворачивающей свой художественный потенциал эпохи «современности» неоклассики выдвигают тезис о «новой современной классичности» (neue moderne Klassizitat), подчеркивая, что речь идет не о «возвращении к традиции, но о поисках новых путей к новой классичности» [Bandur 1996, 285]. В плане требования возврата к строгой организации текста неоклассицизм в некоторой степени может рассматриваться в качестве предтечи «новой вещественности (деловитости)», явившей себя как прямая реакция на патетику позднего экспрессионизма и антиформу дадаизма. Не случайно в качестве синонима классицистическому и в противовес личностному искусству романтиков Люблинский использует термин «вещное искусство» (Sachkunst) и «вещественность» (Sachlichkeit) [Lublinski 1903-1904, 151, 159], с его семантическими признаками «реальность», «материальность», «объективность», «целесообразность». Последний термин наиболее точно отражает суть нового направления. Примечательно, что во времена постреволюционного хаоса будущее Германии, в том числе и ее культуры, видится Т. Манну через призму доброго немецкого порядка, соразмерности, в основе которых лежат принципы целесообразности (Sachlichkeit) [Mann 1923], несовместимые, в частности, с программатикой экспрессионизма. Любопытно отметить, что черты «новой деловитости» усматривали и в творчестве теоретика и практика немецкого неоклассицизма П. Эрнста [Schafer 1928].
Таким образом, несмотря на внешнюю разнородность явлений, из которых складывался художественный облик эпохи немецкого модернизма, главным стержнем, объединявшим разновекторную направленность литературного процесса, служила его обновленческая парадигматика.
Список литературы Семантика "нео -" в немецкой литературе рубежа XIX-XX вв
- Жеребин А.И. На стороне Вены (Об одной реалии в романе Т. Фонтане «Эффи Брист»)//Немецкоязычная литература: единство в многообразии. М., 2010. С. 73-78.
- Карельский А.В. Мировоззренческая пародия как модель художественного сознания в немецкой литературе XIX-XX вв.//Методологические проблемы истории и теории литературы. Вильнюс, 1978. С. 298-303.
- Цветков Ю.Л. Символизм//История литературы Германии ХХ века. Т. 1. 1880-1945. М., 2016. С. 249-264.
- Alberti C. Die zwolf Artikel des Realismus//Die Gesellschaft. 1889. № 5. S. 49-58.
- Andreotti M. Die Struktur der modernen Literatur. Bern, 2000.
- Anonym. Thesen der "Freien litterarischen Vereinigung Durch!"//Magazin fur die Litteratur des In-und Auslandes. 18. 12.1886. S. 810.
- Bahr H. Die Uberwindung des Naturalismus. Dresden, 1891.
- Bahr H. Selbstbildnis. Berlin, 1923.
- Bahr H. Symbolismus//Die Nation. 1892. Jg. 9. №. 38. 18 Juni. S. 576577.
- Bandur M. Neoklassizismus//Terminologie der Musik im 20. Jahrhun-dert/H.H. Eggebrecht (Hrsg.). Stuttgart, 1995. S. 278-299.
- Bayertz K. Die Deszendenz des Schonen. Darwinisierende Asthetik im Ausgang des 19. Jahrhunderts//Fin de Siecle. Zur Naturwissenschaft und Literatur der Jahrhundertwende im deutsch-skandinavischen Kontext/K. Bohnen (Hrsg.). Kopenhagen, 1984. S. 88-110.
- Bjarne P. Holmsen Papa Hamlet. Dresden, 1889.
- Bolsche W. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie. Prolegomena einer realistischen Asthetik, Leipzig, 1887.
- Burns R. The Quest for Modernity. The Place of Arno Holz in Modern German Literature. Frankfurt a. M., 1981.
- Conrad M.G. Vom vaterlandischen Roman//Die Gesellschaft. 1885. № 44.S.832-836.
- Curtius E.R. Briefe von Ernst Robert Curtius an Carl Schmitt (19211922)//Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1981. Bd. 133. S. 1-15.
- Durrenmatt F. Theater-Schriften und Reden II. Zurich, 1972.
- Fahnders W. Avantgarde und Moderne 1890-1933. Stuttgart, 1998.
- Fels F.M. Die Moderne//Moderne Rundschau, 1891. Bd. 1. H. 3. S. 7981.
- Glaser H.A. Naturalistisches Drama//Deutsche Literatur. Eine Sozial-geschichte/Glaser H.A. (Hrsg.). Bd. 8. Reinbek bei Hamburg, 1982. S. 188204.
- Gumbrecht H.U. Modern, Modernitat, Moderne//Koselleck R. (Hrsg.). Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 4. Stuttgart, 1978. S. 93-131.
- Holz A. Das Werk. Bd. 10. Berlin, 1925.
- Holz A. Revolution der Lyrik. Berlin, 1899.
- Kircher E. Romantischer und historisсher Sinn//Neue Deutsche Rundschau. 1903.H. 14. S. 1121-1142.
- Leixner O. Unsere Jungsten//Deutsche Roman-Zeitung. 1885. № 41. S.140-144.
- Lublinski S. Klassische Kunst//Die Zukunft XII. 1903-1904. Bd. 46. S. 151-159.
- Lublinski S. Kritik meiner Bilanz der Moderne//Der Ausgang der Moderne, 1909. (Series: Deutsche Texte. Bd. 41). S. 225-235.
- Mann H. Briefe an Ludwig Ewers. 1883-1913/U. Dietzel (Hrsg.). Berlin; Weimar. 1980.
- Mann Th. Goethe und Tolstoi. Aachen, 1923.
- Mehring F. Etwas uber den Naturalismus//Die Volksbuhne. 1892. № 1. S. 7-11.
- Meyer Th. Das naturalistische Drama//Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart/Y.-G. Mix (Hrsg.). Bd. 7. Munchen, 2000. S. 64-76.
- Schafer W.E. Paul Ernst//Deutsches Volkstum. Jg. 10. 1928. Н. 12. S. 661-667.
- Simmel G. Philosophie des Geldes. Munchen, 1900.
- Simmel G. Probleme der Geschichtsphilosophie. Munchen, 1922.
- Wilpert G. Sachworterbuch der Literatur. Stuttgart, 2001.