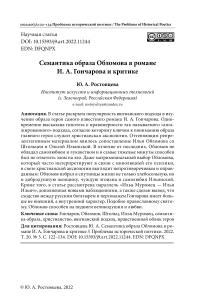Семантика образа Обломова в романе И. А. Гончарова и критике
Автор: Ростовцева Юлия Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрыта популярность юнгианского подхода в изучении образа героя самого известного романа И. А. Гончарова. Одновременно высказана гипотеза о правомерности так называемого «ангажированного» подхода, согласно которому ключом к пониманию образа главного героя служит христианская аксиология. Оттеняющим репрезентативным материалом явилось сопоставление Ильи Обломова со Штольцем и Ольгой Ильинской. В отличие от последних, Обломов не обладал самолюбием и лукавством и в самые тяжелые минуты способен был не ответить злом на зло. Даже матримониальный выбор Обломова, который часто интерпретируют в связи с инволюцией его психики, в свете христианской аксиологии выглядит непротиворечивым и оправданным: Обломов избрал в спутницы жизни не только хлебосольную, но и добродушную женщину, чуждую эгоизма и самолюбия Ильинской. Кроме того, в статье рассмотрена параллель «Илья Муромец - Илья Ильич», дополненная новыми наблюдениями, а также сделан вывод, что сходство между русским богатырем и персонажем Гончарова имеет больше не внешний, а внутренний характер. Подобно православному святому, Обломов способен на подвиги великодушия и любви.
Гончаров, обломов, штольц, илья муромец, семантика образа, христианство, юнгианский подход, нравственный облик героя
Короткий адрес: https://sciup.org/147238867
IDR: 147238867 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11244
Текст научной статьи Семантика образа Обломова в романе И. А. Гончарова и критике
«Вообще модная в последние годы в России тенденция найти в “Обломове” православный смысл кажется мне совершенно необоснованной», — декларирует автор одного из сравнительно недавних исследований, посвященных произведению И. А. Гончарова [Мэла: 36]. Это, впрочем, не мешает французскому слависту Э. Мэла рассматривать образ главного героя романа с точки зрения аналитической психологии:
Обломов «в юнговской терминологии — пожертвовав персоной , сохранил самость », — отмечает автор [Мэла: 37]. Не утверждая «православный смысл» прочтения образа Обломова как единственно возможный, нельзя одновременно не удивиться той личностной ограниченности, которую приписывает герою западная славистка. Слова «пожертвовав персоной » в контексте юнгианской теории коллективного бессознательного значат, что Илья Ильич носил маску, «которая подделывается под индивидуальность и пытается заставить других и своего носителя думать, будто он индивидуален» [Юнг: 183]. Выходит, именно псевдоиндвидуальностью герой Гончарова и пожертвовал? И это говорится о персонаже, для которого ничегонеделание было своего рода протестом окружающей действительности, о характере, который «никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь»1.
«Высшее начало» личности Ильи Ильича, признаваемое им самим и в ворах, и в падших женщинах, самом, что называется, «негодном сосуде», Э. Мэла отвергается как нечто надуманное. Представляется, что при прочтении классика, писавшего в стране, для которой православие является не только суммой религиозных представлений, но и культурной традицией, подобный взгляд не стоило бы признавать «совершенно необоснованным». Нелишне упомянуть здесь гончаровские слова, которыми он откликнулся на картину И. Н. Крамского «Христос в пустыне»: «…все почти гении искусства принадлежат христианству»2. Между тем, «модное» православное осмысление трагической судьбы Обломова приходится лишь на вторую половину XX в. (сегодня апологетом подобного подхода является почти один только В. И. Мельник), в то время как юнгианское прочтение романа лишь при первом знакомстве с историографией вопроса принадлежит Г. Башляру [Bachelard], Ф. Лабриоль [Labriolle], Н. Баратофф [Baratoff], Ю. Г. Алексееву [Алексеев], В. Н. Криволапову [Кри волапов, 2012] . Список можно было бы продолжить.
В работе Э. Мэла, цитатой из которой начата настоящая статья, автор высказывается против правомерности аналогии Илья Обломов — Илья Муромец: «О сходстве Обломова с Ильей Муромцем пишет В. Кантор, но его подход, с моей точки зрения, слишком социологичен и не выявляет собственно литературные мотивы обращения к этой легенде» (курсив мой. — Ю. Р. ) [Мэла: 34]. Позволим поправить автора в том, что первым на связь былинного героя с персонажем романа Гончарова еще в начале XX в. указал Ю. И. Айхенвальд, а отнюдь не Кантор [Айхенвальд: 147]. Довольно симптоматично, однако, в данном случае другое — то, что Мэла не может допустить аналогию Обломова с былинным героем, даже если бы она была сделана на бессознательном уровне в то время, как означенная типология имеет право на существование и находится вполне в спектре адекватных прочтений романа [Есаулов: 8].
Вспомним, что и внутри самого текста автор сделал некое указание на значимость образа Ильи Муромца для понимания характера главного героя. Упоминание о богатыре появляется в главе «Сон Обломова», выражающей собой своего рода квинтэссенцию подсознальных и вполне осознанных устремлений героя. Персонаж Гончарова не просто Илья, но Илья Ильич , что в контексте его более чем тридцатилетнего бездействия (Илья Муромец также «сиднем сидел цело тридцать лет»3) только усиливает означенную параллель. Обломов имел «золотое сердце», о его добродетелях, а не только богатырской удали свидетельствует восприятие былинного героя русским народным сознанием. Известна трактовка образа Ильи Муромца, озвученная братьями Аксаковыми за три года до публикации романа в «Русской беседе» (1856, № 4):
«…в нем нет удальства. Все подвиги его степенны, и все в нем степенно: это тихая, непобедимая сила. Он не кровожаден, не любит убивать и, где можно, уклоняется от нанесения удара. Спокойствие нигде его не оставляет; внутренняя тишина духа выражается и во внешнем образе, во всех его речах и движениях. <…> Илья Муромец пользуется общеизвестностью больше всех других богатырей. Полный неодолимой силы и непобедимой благости, он, по нашему мнению, представитель, живой образ русского народа»4.
Вместе с тем Илья Муромец не только фольклорный персонаж, это православный святой. Его общецерковное почитание установлено указами Святейшего Синода в конце XVIII в. Можно было бы игнорировать значение этого факта для российской словесности, если бы рукописные сборники и лубочная литература XVIII–XIX вв. не отражали православный контекст восприятия былинного героя.
В повестях Нового времени Илья Муромец, как и подобает подвижнику веры, наделен благочестивыми отцом и матерью. Так, в «Повести о сильнем могучем богатыри Илии Муромце и Соловье-разбойнике» чудесное исцеление происходит уже не волею одних калик-волхвов, а по усердным молитвам родителей будущего богатыря, бывших в тот день за всенощной5. Тот же мотив вымоленного исцеления можно встретить и в других прозаических переложениях дообло-мовского и постобломовского периода6. Не уступает родителям в религиозности и сам богатырь. Прежде чем отправиться в Киев на поклон к великому князю Владимиру, он «слуша заутреню воскресную», прежде чем войти в палаты княжеские, «молился чесным святым иконам». Само окончание повестей о русском богатыре репрезентирует сакральный контекст понимания. Не случайно ряд текстов заканчивается словами: «Конец сему повествованию. Аминь», где «аминь» выполняет функцию молитвенную, а не просто служит сигналом об окончании текста.
Сюжетная типология романа и былины об Илье Муромце представлена в статье В. Кантора [Кантор]. Автор приходит к выводу, что после исцеления через калик перехожих, место которых в произведении занимает «путешественник» Штольц, Илья Ильич должен был выйти на свои ратные подвиги. Этим нереализованным содержанием, этим редуцированным подобием богатырство главного героя исчерпывается. Вместе с тем, вопрос о внутренних чертах богатой натуры Обломова остается до сих пор до конца не решенным. Представляется, что удвоением имени (Илья Ильич) Гончаров приглашает читателя к размышлению об исполинстве Обломова, которое, повторимся, не следует понимать только внешне — как проявленное в определенных поступках.
Описывая характер главного героя, традиционно прибегают к антитезе Обломов–Штольц. Это противопоставление используют как почитатели «русского немца» [Мельник: 143], так и те, кому он представляется носителем темного, фаустовского начала в противовес почти святому в своем созерцательном бездействии Илье Ильичу [Louria, Seiden: 47]. Однако сегодня на основании одного указания о Штольце в тексте романа ( «веру он исповедовал православную» (120) ) выстраиваются целые положения о христоцентричности поведения героя, об укорененности его в православной традиции, в то время как вероисповедание Обломова изначально затрагивает якобы «лишь плотски-душевную жизнь человека» [Мельник: 140]. Еще наивнее кажется нам подход, согласно которому нравственные установки Андрея Штольца поверяются апостольскими посланиями, другими новозаветными книгами, наследием святых отцов — со всеми идущими отсюда более чем утешительными выводами для образа героя [Мельник: 143–144]. Как христианская добродетель преподносится даже сверхдеятельность Штольца. Между тем, у внимательного читателя редко остается восторженное впечатление от знакомства с этим характером. В действительности, корнем всех благ, механизмом всей жизненной машины в Штольце является самолюбие. Об этом недвусмысленно говорит Ольга Ильинская в пятой главе второй части романа:
«Но ведь самолюбие везде есть, и много. Андрей Иваныч говорит, что это почти единственный двигатель, который управляет волей» (157).
Добавляя Обломову:
«Вот у вас, должно быть, нет его, оттого вы все…» (157).
В другом месте главный герой и сам отмечает, казалось бы, ущербное отсутствие самолюбия в своей натуре, замечая своему другу:
«У тебя крылья есть: ты не живешь, ты летаешь; у тебя есть дарования, самолюбие…» (305).
По большому счету, вся добродетельная жизнь Штольца, фамилия которого не случайно переводится как «гордый», сводится к любви к труду ради самого труда:
«Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей» (144).
В. Н. Криволапов в своем исследовании, посвященном образу героя, убедительно показал, что подобное понимание трудовой деятельности сродни протестантской этике: «Это положение практически все объясняет в ситуации отторжения Штольца “русским миром”, связанным с иными религиозными традициями, не скорректированными реформацией, которая, как известно, не затронула православного Востока» [Криволапов, 1997: 49].
Самолюбие — одно из первых качеств, с помощью которого Гончаров делает штрихи к портрету Ольги Ильинcкой — своего рода ученицы Андрея Штольца. Самолюбивой называет себя сама героиня, самолюбивой изображает ее автор:
«Между тем и ему <Штольцу> долго, почти всю жизнь предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой , гордой Ольги…» (360; курсив мой. — Ю. Р. ).
Помимо этой, воспетой ею черты характера, пагубной для души христианина, героиня обладала и другой — лукавством:
«Она была не без лукавства» (269).
Как и в случае с самолюбием, данная особенность человеческой души персонажа представлена в противоположность обломовской бесхитростности:
«Ты не лукав — я знаю, но…» (274).
Является ли отсутствие гордости, самолюбия и лукавства христианской добродетелью? Пожалуй, что так. Однако их отсутствие еще не указывает на богатырскую душу Обломова. Отсутствие зла — еще не есть добро. Между тем, Илья Ильич не чужд и истинно благородных порывов. Нравственным чувством проникнуто его понимание жизни. Человечность и подлинное существование слиты для героя воедино. В разговоре с литератором Пенкиным он так мотивирует отказ от чтения новомодного художественного произведения:
«Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! <…> Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову» (25).
Гуманизм Обломова прост, он покоится на заповеди любви к ближнему, признании «высшего начала» в самом отъявленном грешнике. Осудить для героя, предать остракизму падшего человека — «это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами», забыть о «милосердии Божии» (26).
Иначе на любовь смотрят Ольга и Штольц. Последний холодно и расчетливо оценивает свои увлечения женским полом, чтобы избегнуть напрасных сердечных мук, первая, самолюбиво признав Обломова недостойным объектом своей сердечной привязанности, отвергает его. Как ведет себя отвергнутый герой, которому доставало ума понять и то, что вердикт возлюбленной продиктован гордым чувством собственного достоинства? Он не имеет и тени желания излить ответный яд, Гончаров уподобляет своего персонажа нищему, «которого упрекнули его наготой» (290). Не случайно в оценке Ольги Илья Ильич наделяется одной из высших христианских добродетей — кротостью:
«Ты кроток, честен, Илья…» (289).
Но и этого недостаточно Гончарову-гуманисту. Как переживает душою, как радуется о счастье Ольги, столь больно уязвившей его при последнем свидании, Обломов по прошествии времени. При одном из таких излияний великодушия сам Штольц восторгается другом:
«Какой ты добрый, Илья!» (336).
Эта радость за счастье товарища поднимает героя на одну из высших ступеней христианской добродетели, о которой преподобный Авва Дорофей говорит так: «…велико <…> радоваться вместе с предпочтенным тебе»7. Обломов разделяет счастье не только друга, но и той, которая нанесла рану его самолюбию. Знаменательно в этой связи наблюдение «русского немца»:
«А радость разве не чувство, и притом еще без эгоизма? Ты радуешься только ее счастью» (336).
Итак, герой способен к высшему сопереживанию, к которому призывал апостол Павел: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). В этом истинный подвиг Обломова, который под силу только богатырской душе — исполину духа. Заметим, что эти духовные свершения приходятся уже на ту пору, когда герой, если еще не «погиб», выражаясь языком Штольца, то погряз в своей «обломовщине».
Как следующую ступень деградации, погружение в «прозаическое царство немых вещей», по мнению М. Эхре, следует рассматривать матримониальный выбор Обломова — женитьбу на Агафье Пшенициной [Ehre: 207]. Менее категоричный взгляд высказывает Ф. Лабре. По ее мнению, избрание в супруги Агафьи Матвеевны — лишь итог вечного стремления Обломова в мир детства, по причине чего герой и выбирает себе жену-мать [Labriolle: 51]. Сходный подход использует и Э. Мэла, видя в решении Обломова связать себя узами брака с Пшеницыной «возврат к матери, “представляющий собой одну из сильнейших тенденций инволюции психики”, ее развития в спять» [Мэла: 31]. Между тем, значение образа
Агафьи Матвеевны для Обломова можно интерпретировать и иначе. И желание размеренной, покойной жизни героя, которое по замечанию М. М. Пришвина, «таит в себе запрос на высшую ценность»8, и тоска по утраченному земному раю обретают под заботливым оком Агафьи Пшеницыной свое воплощение. Однако едва ли можно утверждать, что героиня Гончарова — это только кухонная стряпня да белые локти. Супруга Обломова была подлинно религиозна [Старыгина], вверяя себя и весь свой дом в волю Божию, она часто посещает храм, в котором подает записки за здравие Ильи Ильича.
Безусловно, религиозность самого Обломова предстает перед нами в слабом, редуцированном виде; тем большее сопротивление вызывают попытки увидеть в герое воплощение целого ряда евангельских блаженств [Мельник: 140–141], как и стремления назвать его времяпрепровождение «жизнью святого созерцания» [Louria, Seiden: 53], «духовным покоем» [Котельников: 30]. Вместе с тем в Илье Ильиче есть безусловная любовь к патриархальному укладу жизни, не последнее место в котором отведено православию. Стоит вспомнить тот укор в любви к обыденщине, с которым набрасывается на Обломова Ольга Ильинская в сцене их последнего объяснения:
«А с тобой мы стали бы жить изо дня в день, ждать Рождества , потом масленицы , ездить в гости, танцевать и не думать ни о чем; ложились бы спать и благодарили Бога , что день скоро прошел…» (выделено мной. — Ю. Р .) (288).
Можно было бы утверждать, что обрядоверие Обломова имеет исключительно гастрономические корни и сводится к желанию сладко покушать после очередного поста или за днем ангела, но сам герой недвусмысленно обозначил свою религиозность уверенностью в наличии высшего начала в каждом Божьем сосуде. Вероятно, и поэтому тоже супругой его смогла стать обедневшая дворянка Агафья Пшеницына.
Таким образом, некая «ангажированность» [Романова: 252] не мешает увидеть, что мысль о наличии у главного героя христианских идеалов основана не только на одном желании рассмотреть «Обломова» как «православный роман», но и на вдумчивом прочтении текста произведения. Подобные интерпретации добавляют светлые штрихи к образу героя, которого А. П. Чехов называл «мелкой натурой»9, а критик А. П. Милюков «апатичным эгоистом»10, помогают разглядеть в Обломове богатыря духа, способного на подвиги великодушия и любви. Образ же православного богатыря Ильи Муромца, который, по слову В. Кантора, волновал творческое воображение Гончарова [Кaнтор: 184], служит лишь оттеняющим фоном к настоящим наблюдениям.
Список литературы Семантика образа Обломова в романе И. А. Гончарова и критике
- Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М., 1906. Вып. 1. 243 с.
- Алексеев Ю. Г. Об одной точке зрения на роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете философии Юнга // Человек в культуре России: мат-лы VIII Всеросс. науч.-практ. конф., посвященной Дню славянской письменности и культуры. 2000. С. 64-65.
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ 1995. 100 с.
- Кантор В. «Долгий навык к сну». Размышления о романе И. А. Гончарова «Обломов» // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 149-185.
- Котельников В. А. «Покой» в религиозно-философских и художественных контекстах // Русская литература. 1994. № 1. С. 3-41.
- Криволапов В. Н. Вспомним о Штольце // Русская литература. 1997. № 3. С. 42-66.
- Криволапов В. Н. Обломов И. А. Гончарова в свете аналитической психологии К. Г. Юнга // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 3-2 (23). Ч. 2. С. 001-003.
- Мельник В. И. Евангельские проекции в романе И. А. Гончарова «Обломов» // Вестник РГНФ. 2008. № 4. С. 139-146.
- Мэла Э. Лень Обломова: блеск и нищета утраченной полноты // Обломов: константы и переменные: сб. науч. ст. / сост. С. В. Денисенко. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 30-38.
- Романова А. В. «Обломов» с акцентом // Обломов: константы и переменные: сб. науч. ст. / сост. С. В. Денисенко. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 235-252.
- 9 Переписка А. П. Чехова: в 2 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 1. С. 214.
- 10 Милюков А. П. Русская апатия и немецкая деятельность // Отголоски на литературные и общественные явления. Критические очерки. СПб.: Тип. Ф. С. Сущинского, 1875. С. 19.
- Старыгина Н. Н. Вера и воцерковленность Агафьи Матвеевны Пшеницыной (по роману И. А. Гончарова «Обломов») // Православие в контексте отечественной и мировой литературы: сб. ст. Арзамас, 2006. С. 307-325.
- Юнг К. Г. Очерки по психологии бессознательного. М.: Cogito centre, 2010. 350 с.
- Bachelard G. La terre et les rêveries du repos. Paris, 1948. 409 p.
- Baratoff N. Oblomov: a Jungian Approach. А Literary Image of the Mother Complex. Bern, Peter Lang, 1990. 148 p.
- Ehre M. Oblomov and His Creator. The Life and the Art of Ivan Goncharov. Princeton, New Jersey, 1973. 309 p.
- Labriolle F. Oblomov n'est-il qu'un paresseux? («Обломов просто ленивый?») // Cahiers du monde russe et sovietique. 1969. Vol. 10. No. 1. Pp. 38-51.
- Louria Y., Seiden I. M. Ivan Goncharov's Oblomov: the Anti-Faust as Chriastian Hero // Canadian Slavic Studies. 1969. Vol. 3. No. 1. Pp. 39-68.