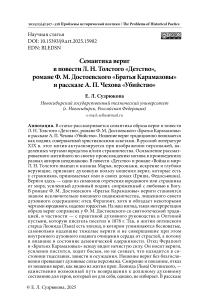Семантика вериг в повести Л. Н. Толстого «Детство», романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и рассказе А. П. Чехова «Убийство»
Автор: Сузрюкова Е.Л.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается семантика образа вериг в повести Л. Н. Толстого «Детство», романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и рассказе А. П. Чехова «Убийство». Ношение вериг традиционно понимается как подвиг, совершаемый христианскими аскетами. В русской литературе XIX в. этот мотив актуализируется при изображении персонажей, наделенных чертами юродства и/или странничества. Осмысление рассматриваемого житийного по своему происхождению мотива в произведениях разных авторов неодинаково. В повести «Детство» и романе «Война и мир» Л. Н. Толстого maman и княжна Марья, персонажи, искренне и глубоко верующие, признают духовную пользу ношения вериг, которые есть у странников, принимаемых ими в своих домах (Гриша, Федосьюшка). Вериги здесь — один из символов отречения юродивого или странника от мира, усиленный духовный подвиг, сопряженный с любовью к Богу. В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» вериги становятся знаком исключительно внешнего подвижничества, лишенного своего духовного содержания: отец Ферапонт, хотя и обладает некоторыми чертами юродивого, наделен гордостью. На наш взгляд, такая интерпретация образа вериг сопряжена у Ф. М. Достоевского со святоотеческой традицией, в частности — с практикой духовного руководства в Оптиной пустыни, которую писатель посетил в 1878 г. Так, в житии оптинского старца Леонида (Льва) есть эпизод, в котором упоминаются бесноватые, самовольно надевшие тяжелые вериги и не совершавшие при этом внутреннего духовного подвига очищения сердца от страстей, а потому и впавшие в состояние демонической одержимости. Отец Ферапонт в «Братьях Карамазовых» всюду видит нечистую силу. Он носит вериги, усиленно постится, ходит босым, но не сознает, что находится в состоянии тщеславия, зависти и осуждения. Ношение вериг без благословения превышает духовные силы персонажа. Смирение и покаяние, отказ от ношения вериг, как видно из жития преп. Леонида (Льва) Оптинского, — единственно возможный путь возвращения к должному духовному состоянию для героя, который он для себя, однако, не избирает. В рассказе А. П. Чехова «Убийство» продолжается смысловая линия изображения вериг, заданная Ф. М. Достоевским. Матвей Терехов уклоняется в сектантство, осуждая священнослужителей Православной Церкви. При этом он носит вериги, много молится и усиленно постится, пытается самостоятельно совершать богослужение. Отречение от своих заблуждений сопровождается у персонажа также отказом носить вериги, мысль надеть которые, по словам его хозяина, исходит «от беса». В анализируемых произведениях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова ценностно значимой, спасительной для души, оказывается именно православная вера, от которой герой не должен отступать, не уклоняясь исключительно во внешнее подвижничество, не оставляя Православную Церковь.
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, вериги, юродивый, аскетика, семантика, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/147252388
IDR: 147252388 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15902
Текст научной статьи Семантика вериг в повести Л. Н. Толстого «Детство», романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и рассказе А. П. Чехова «Убийство»
ВПравославной энциклопедии вериги определяются как «тяжелые цепи или иные металлические предметы, ношение к<ото>рых на теле является одним из видов аскетического подвижничества»1. В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля подробно перечисляется то, что относится к веригам: «…кандалы, цепи, железа, оковы; разного вида железные цепи, полосы, кольца, носимые спасающимися на голом теле, для смирения плоти; железная шляпа, железные подошвы, медная икона на груди, с цепями от нее, иногда пронятыми сквозь тело или кожу и пр.»2.
Среди русских подвижников, носивших вериги, наиболее известны преп. Никита Столпник (XII в.), преп. Евфросиния Полоцкая (XII в.), преп. Иринарх Ростовский (кон. XVI — нач. XVII в.). В житии преп. Никиты содержится история о чудесном возвращении вериг после смерти святого в монастырь, где он прежде подвизался: «…"ближные его два", прельстившиеся железными веригами, блестевшими, как серебро, убили Никиту <…>. Житие заканчивается рассказом о возвращении в Никитский монастырь вериг и крестов Никиты. Они были брошены убийцами в Волгу неподалеку от ярославского монастыря во имя святых апостолов Петра и Павла, но не утонули, а плавали на поверхности воды и были найдены благодаря чудесному видению старцу Симону исходящих от них 3 каменных столбов высотой до неба и сияющих, как солнце» [Федотова: 519]. Образ вериг сопряжен здесь с семантикой драгоценности, а также со значением особого сияния, блеска, появившегося как посмертное чудо в житии подвижника. Что касается другого святого, носившего вериги, то «имеются упоминания о "будничных" и "праздничных" веригах преп. Иринарха. По подсчетам Корсунского, "труды" святого весили 9 пудов 34 фунта (свыше 150 кг)» [Доброцветов: 389]. Кроме того, в Православной энциклопедии отмечается, что «в<ериги> носили не только монахи-аскеты, но и нек<ото>рые церковногосударственные деятели — напр<имер>, Патриарх Московский и всея Руси Никон»3. В Вознесенском соборе Новоиерусалимского монастыря эти вериги «весом в 14 фунтов (около 6 кг)»4 висели продолжительное время. Их иногда спускали, чтобы возложить на больных: «Многие из недужных, с верою притекавших к гробнице патриарха Никона, получали от его вериг немедленное и полное исцеление»5.
Ношение на себе вериг было свойственно и юродивым, о чем упоминается, к примеру, в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина:
«…юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека укорять в глаза беззаконною жизнию…» 6 .
О. А. Туминская, перечисляя средства «уничижения плоти», применяемые юродивыми, пишет в том числе и о веригах: «Юродивые во Христе в вопросах усмирения плоти достигли апогея: они не только смиряли свое физическое естество, но и исповедовали максиму "уничижения плоти", что выражалось в отказе от самых необходимых потребностей человека в жизни — еды, питья, одежды, жилища, общения с близкими, и удваивали свои страдания путем ношения вериг, власяниц, принятия дополнительных строжайших и болезненных обетов» [Туминская: 99]. Вериги здесь имеют семантику добровольно переносимых мук, ношение их — один из наиболее трудных аскетических подвигов.
В исследованиях, посвященных теме юродства, идет речь, в частности, о внешнем виде подвижников такого типа. Вериги здесь, по мнению А. М. Панченко, — «актерские атрибуты» [Панченко: 93]. Ученый указывает на наиболее яркие элементы внешнего облика, которые характеризуют юродивого: «колпак великий и тяжкий» Иоанна Водоносца, «медные кольца» на его «тайных удах» [Панченко: 93]. А. М. Панченко отмечает: «Юродивый — это актер sui generis, как клоун или конферансье. Костюм юродивого должен прежде всего подчеркивать его особность, непохожесть, выделять его из толпы. Отсюда разнообразие костюмов юродивых, которые удовлетворяют только одному условию — они обязательно экстравагантны» [Панченко: 93]. В таком случае вериги в числе прочих «несообразностей» в облике юродивого, как считает исследователь, включены в зрелище, цель которого — «ругаться миру», т. е. «жить в миру, среди людей, обличая пороки и грехи сильных и слабых и не об ращая вниман ия на общественные приличия» [Панченко: 79].
Однако, с точки зрения И. А. Есаулова, «юродство является не эксцентрическим отклонением от "нормы", а ее восстановлением» [Есаулов: 185]. Более того, ученый пишет, что «в русской православной традиции главным ориентиром является не "норма", определяемая Законом, а святость, соприрод-ная Благодати, которой и наследует юродство» [Есаулов: 185]. В этом контексте внешний вид юродивого — признак его отделенности от мира греха и знак приобщения к Небесному Царству: «В целом пасхальный характер юродства проявляется, очевидно, в том, что люди должны помнить об изгнан-ности из рая и не принимать здешний земной мир — даже после явления в нем Христа — за этот рай. Спасение "куплено" ценою Распятия: надеющимся на воскресение следует всегда помнить об этом» [Есаулов: 164]. В. В. Иванов называет юродивого героя «христоподобным человеком» [Иванов, 2016: 100], «странность поступков» которого «возникает как следствие акта пробужденной совести» [Иванов, 2016: 97]. Ношение вериг в этом контексте позволяет осмысливать их как эксплицитно данный знак духовного движения к Богу.
Добавим, что в молитвословии вериги уподобляются грехам ( «Ко множеству м и лости Твоея ны1 не прибегаю: разреши вериги, Богородице, согрешений моих» (тропарь по 19-й кафизме Псалтири7) ) , следовательно, ношение их — еще и зримое напоминание подвижнику о необходимости покаяния для спасения души.
В русской литературе XIX в. вериги в прямом значении слова вводятся в художественный текст не так часто. В «Борисе Годунове» А. С. Пушкина есть ремарка:
« Входит Юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками » [Пушкин: 77].
Здесь вериг подчеркнуто много, и они не скрыты от постороннего взгляда. «Шапка», согласно словарю В. И. Даля, тоже относится к веригам, хотя автор и разделяет здесь вериги как таковые и носимый на голове «убор». Железо, из которого сделаны вериги, по словам Л. В. Карасева, имеет семантику смерто носности, оно «агрессивно и беспощадно» [Карасев: 103].
В аскетическом плане железные вериги — и символ покаяния, и способ «умерщвления» плоти, греховного начала в себе.
В первой части трилогии Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» дети желают увидеть вериги, которые носит «юродивый и странник Гриша» [Толстой; т. 1: 17], не выставляя их напоказ, в отличие от пушкинского героя, и для этого они прячутся в чулане, где Грише дали ночлег. Но в результате дети так и не увидели вериг, хотя можно было угадать, что они все же имеются:
«Оставшись в одном белье, он [Гриша] тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что поморщился — поправил под рубашкой вериги» [Толстой; т. 1: 34].
Это «тайна» подвижника, «великого христианина», как называет его повествователь, которая парадоксальным образом все же стала известна людям.
Первое упоминание вериг в этом произведении связано с образом maman. Вериги она использует в качестве одного из аргументов «в защиту» юродивых:
«…трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и не снимая носит под платьем вериги в два пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, — трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени» [Толстой; т. 1: 19].
Подобного рода персонаж появляется и в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (том второй, ч. 3, глава XXVI):
«Была одна странница, Федосьюшка, 50-ти-летняя, маленькая, тихенькая, рябая женщина, ходившая уже больше 30-ти лет босиком и в веригах» [Толстой; т. 10: 237].
Эту странницу принимает у себя княжна Марья Болконская, образ которой, как и образ maman в повести «Детство», связан с родной матерью писателя, урожденной кн. Марией Николаевной Волконской. Княжна Марья в романе Л. Н. Толстого размышляет о сущности подвига такого рода «Божьих людей»:
«…Христос, Сын Бога сошел на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытание, а мы все держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого? — думала княжна Марья. — Никто кроме этих презренных Божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтоб его не ввести в грех. Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место, не делая вреда людям, и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые покровительствуют: выше этой истины и жизни нет истины и жизни!» [Толстой; т. 10: 236].
Федосьюшка с ранней юности отказалась от мирской жизни. Она, как и Гриша, несет подвиг странничества. Объединяет их в тексте образ вериг (ношение избыточной тяжести) и хождение без обуви (лишение себя необходимого). Это знаки отказа от принадлежности к сфере мирского, недуховного. Здесь присутствует и появление несвойственных человеку качеств: перенесение любых условий погоды, необычная выносливость, терпение. Все это признаки духовной силы в поэтике Л. Н. Толстого.
Княжна Марья желает и сама стать такой же странницей и получает на это благословение от духовника:
«В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающею с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам, и в конце концов, туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство» [Толстой; т. 10: 237].
С. Р. Шаваринская отмечает: «Вера княжны Марьи канонична, при этом ей свойственно стремление к подвижничеству в простонародном его понимании, когда странствие понимается как великое дело, ради которого можно бросить все и идти милостынею по миру, молясь за всех» [Шаваринская: 69]. Однако княжна выбирает для себя иной путь:
«Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога» [Толстой; т. 10: 237].
Странничество, таким образом, остается для княжны высоким идеалом, не воплощенным в жизнь, хотя путь ее семейной жизни, по словам С. Р. Шаваринской, «Толстой изображает как отсвет любви горней» [Шаваринская: 70].
Итак, вериги у Л. Н. Толстого — атрибут подвижника, юрдивого и/или странника, символ истинной веры, знак отрешенности от соблазнов мирской жизни, причастности миру духовному.
Интересно, что в ХХ в. у представителя русского зарубежья, писателя В. А. Никифорова-Волгина, появляется рассказ «Вериги Толстого», в котором прозаик, по словам О. В. Христо-любовой и Е. В. Ясновой, обращается «к теме возможного покаяния Толстого, стремления искупить свой грех, нося на своем теле, как следует из текста, тяжелые вериги, которые после его смерти были захоронены в лесу» [Христолюбова, Яснова: 234]. Рассказ деда Арсения, слышавшего о веригах Льва Толстого от «одного захожего человека»9, служившего на станции Астапово, — оправдание Л. Н. Толстого, чьи художественные произведения он высоко ценит:
«До слез, говорю, книжки его люблю читать, где он про мужиков да про любовь Христову пишет…» ( Никифоров-Волгин, 2013 : 250).
Целью пути Толстого Арсений считает монастырь, в котором писатель, как рассказывает старик, намеревался снять вериги:
«Перед смертью он хотел вериги с себя снять и в монастыре их оставить…» ( Никифоров-Волгин, 2013 : 249).
Заметим, что сама тема тайны смерти созвучна у В. А. Никифорова-Волгина с мотивом, присутствующим в ряде произведений Л. Н. Толстого («Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Посмертные записки старца Федора Кузмича…» и др.). Присутствует в тексте и скептическая нота:
«— Ну уж, дедушка, это побасенки! — улыбнулись мы. — Никаких вериг Толстой не носил. Жизнь и смерть его изучены до последней мелочи!» ( Никифоров-Волгин, 2013 : 249).
Но эта фраза, звучащая в первой половине текста, не получает своего развития, а история деда Арсения, напротив, обрастает подробностями. Л. Н. Толстой для В. А. Никифорова-Волгина в контексте данного рассказа, по-видимому, является образом раскаявшегося грешника, чье покаяние было скрыто от посторонних глаз. В тексте не упоминаются сочи нения Толстог о, направленные против догматов Православной
Церкви. В. А. Никифоров-Волгин включает в свой рассказ лишь то, что способствует духовному преображению человека, то, что не противоречит его собственной вере. Несомненно, это говорит о стремлении самого автора русского зарубежья ХХ в. видеть в человеке лучшее, что в нем есть. Читателю предоставляется возможность самостоятельно решить, прав или нет дед Арсений, рассказавший удивительную историю о Льве Толстом.
В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» вериги носит персонаж, которого считали юродивым. Это отец Ферапонт:
«…из приходящих мирских очень многие чтили его как великого праведника и подвижника, несмотря на то, что видели в нем несомненно юродивого. Но юродство-то и пленяло» [Достоевский: 151].
«Говорили, что носит он на себе под армяком тридцатифунтовые вериги. Обут же был в старые почти развалившиеся башмаки на босу ногу» [Достоевский: 152].
Слух о ношении персонажем вериг подтверждается в первой главке седьмой книги романа «Тлетворный дух», когда отец Ферапонт появляется для обличения уже почившего старца Зосимы10:
«Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться и звенеть жестокие вериги, которые носил он под рясой» [Достоевский: 302].
С одной стороны, в этой сцене подчеркивается принадлежность отца Ферапонта древней христианской аскетической традиции, но с другой — здесь обнаруживается то, что должно быть скрыто от постороннего взгляда. Вместо тайно совершаемого подвига — его подчеркивание. Вместо «уничижения плоти» — демонстрация окружающим якобы должного духовного состояния, что говорит об отсутствии смирения, о духе гордыни. Рассуждая об образе отца Ферапонта, В. Розанов указывал именно на такое духовное его качество, вопреки внеш ним подвигам:
«Ферапонт, несмотря на слова о себе "поган есмь" (что довольно верно), имеет Богом себе свою гордость…» [Розанов: 13].
Войдя в келью с гробом, отец Ферапонт проводит обычный для себя обряд экзорцизма11, сопровождаемый словами:
«— Сатана, изыди, сатана, изыди! — повторял он с каждым крестом. — Извергая извергну! — возопил он опять» [Достоевский: 302].
Интересно, что императив «изыди» повторяет уже отец Паисий по отношению к отцу Ферапонту:
«— Изыди, отче! — повелительно произнес отец Паисий, — не человеки судят, а Бог. Может, здесь "указание" видим такое, коего не в силах понять ни ты, ни я и никто. Изыди, отче, и стадо не возмущай! — повторил он настойчиво» [Достоевский: 303].
Л. Милентиевич так трактует эту сцену: «Уже не помогают увещевания отца Паисия "не тревожить малое стадо", потому что для Ферапонта возрастает самоощущение святости, которое было естественно присуще апостолам и святым, а теперь вкатилось в "не поправленное" сердце Ферапонта. Он привык, чтобы многие обращались к нему с большим почтением <…>. Он требует к себе adoratio, как церковному служителю» [Ми-лентиевич: 84–85].
В связи с рассматриваемой ситуацией следует обратиться к эпизоду из жития преп. Леонида (Льва) Оптинского, в котором упоминаются вериги:
«Приводили к преп. Леониду и многих бесноватых. Было также немало и таких, которые прежде и сами не знали, что они одержимы бесом, и только в присутствии старца по обличении им таившейся в них прелести начинали бесноваться. Так нередко бывало с теми из мирских неразумных подвижников, которые все спасение души своей поставляли в том, что облагались тяжелыми железными веригами, нисколько не помышляя об очищении сердца от страстей. Преп. Леонид приказывал с таких людей снимать вериги, и, когда воля его исполнялась, у некоторых из них становилось явным беснование. На всех таких страдальцев старец возлагал епитрахиль и читал над ними краткую заклинательную молитву из требника, а сверх того помазывал их елеем или давал им оный пить, и было очень много поразительных случаев чудесных исцелений»12.
Ношение вериг здесь сопряжено с духовной опасностью, так как человек становится открыт воздействию на него духов зла, если такой человек не пытается исполнять заповеди Божии в своей жизни13. Ф. М. Достоевский, посетивший Оптину пустынь в 1878 г., мог или знать этот эпизод из жития преп. Леонида (Льва), и/или наблюдать подобные случаи при старце Амвросии Оптинском.
Отец Ферапонт, видящий инфернальные образы, то есть одержимый ими («постоянные бесовидения указывают на то, что Ферапонт в заблуждении», — пишет свящ. М. Липунцов, относящий отца Ферапонта к типу ложного духовника [Липунцов: 254]), подвизается лишь внешне, без внутреннего духовного делания, очищения своего сердца. Отсюда — гордыня ума, порождающая обличение и осуждение ближнего. Вериги в этом контексте становятся знаком формы, лишенной внутреннего — должного для подвижника благодатного — содержания.
В житии преп. Леонида идет речь и о противнике старчества, каким показан в романе Ф. М. Достоевского отец Ферапонт:
«Против старца восстал некто отец Вассиан, который себя считал старожилом в монастыре и не признавал старческого руководства. Этот отец Вассиан признавал только внешние подвиги умерщвления плоти. Подобный ему инок описан Достоевским в романе "Братья Карамазовы" под именем Ферапонта. Вассиан стал писать доносы на старца»14.
Вериги в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», таким образом, не связаны с истинным духовным подвигом верующего человека. А отец Ферапонт, несмотря на ношение вериг, заблуждается. Его духовный путь, в отличие от пути старца Зосимы, не привел к любви, а значит, и к Богу.
Среди рассказов и повестей А. П. Чехова вериги в прямом значении слова упоминаются лишь в одном тексте — рассказе «Убийство». Их носил некоторое время один из персонажей семьи, прозванный Богомоловым, хотя настоящая его фамилия — Терехов:
«Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище — Богомоловы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образам молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у внуков была та особенность, что они понимали Писание не просто, а все искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иваныч, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома» [Чехов: 143–144].
Фамилия-прозвище, полученная семейством, парадоксальным образом указывает не на особую глубину его веры и близость к Богу, а на приверженность к религиозным поискам, разные формы отклонения от православия — традиционной религии русского народа. Основой такого отклонения в тексте названы «меч тания», порождающие «колебания в вере».
По свт. Феофану Затворнику, «свойства сей мечтательности, именно: удаление от действительного, развлечение, смятение, непостоянство мыслей — дают ясно разуметь ее причину. Когда человек сдвинулся со своего места истинного и попал в ложное, неистинное, то вслед за тем и мысли его устремились не к тому, что истинно, а к тому, что мнится быть таковым — к обманчивым призракам»15:
«…когда самовольная фантазия как в темницу какую заключает человека, в сем мраке всею силою начинает свирепствовать сатана. Когда фантазия предается самовольному движению, тогда приходит сатана в сердце и похищает у него Слово Божие или добро, как семя, посеянное при пути, и, напротив, засеме-няет свое зло, как в притче враг человек посеял плевелы среди пшеницы. Опомнившись от мечтаний, человек находит, что настроен на известное зло, и понять не умеет, как и откуда» 16 .
Матвей в рассказе «едва не погиб» [Чехов: 143] от мечтаний. «Мечтанием» Матвей называет помысел, который пришел ему во время совершения Таинства исповеди:
«Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание: ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он, небось, осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит будто дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живут» [Чехов: 138–139].
За «мечтанием» скрывается здесь осуждение, горделивое превозношение, самомнение. Предшествуют этому усиленные внешние подвиги, среди которых есть те, что свойственны были юродивым Христа ради:
«Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал. <…> И, кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже» [Чехов: 138].
Хождение босиком по снегу, ношение вериг, чрезмерный пост без благословения — начальные ступени пути, который приведет Матвея к организации отделенной от Церкви общины и впадению в блуд, а затем и в болезни. К. А. Лукьяненко, анализируя линию Матвея в этом рассказе, пишет: «Самочинное уклонение — это прямое нарушение аскетической традиции, которая предполагает духовное руководство мудрыми наставниками, без которых многие сбивались с верного пути и "повреждались"» [Лукьяненко: 35]. Возвращению к православной вере персонажа будет способствовать беседа с хозяином Осипом Варламычем, человеком «строгой, богоугодной жизни и тружденником» [Чехов: 140]. Хозяин даст трезвую духовную оценку происшедшему.
«Ну, запер дверь и — "давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой… Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!.." И пошел, и пошел… Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и — как зарыдаю! "Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельная твоя от беса; все, говорит, это гордость"» [Чехов: 140–141].
Вериги в этой ситуации — знак отдаления от Церкви, а не принадлежности к ней. Более того, указан и источник, побуждающий героя носить вериги — инфернальная сила. В такой смысловой системе ношение вериг — уже не служение Богу, а служение Его противнику. Путь отпадения от истинной веры в рассказе пройдет и брат Матвея, Яков Иваныч, осудивший младшего брата за вкушение масла и совершивший тяжкий грех братоубийства, Каинов грех. В конце рассказа Яков обретет «простую веру», но, подобно евангельскому богачу из притчи о богаче и Лазаре, он поймет, что сожаления его окажутся слишком поздно пришедшими и прошлое уже невозвратимым.
В художественной прозе Л. Н. Толстого вериги носят юродивые странники (Гриша, Федосьюшка). Рассматриваемый образ сопряжен с семантикой святости, крайним аскетизмом, отказом от всего мирского. В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» инок Ферапонт, носящий вериги, не достигает духовной цели, ради которой должны совершаться такого рода тяжелые упражнения для смирения плоти и духа. В. В. Иванов пишет о «ложном юродстве Ферапонта» [Иванов, 2004: 270]. Исследователь утверждает: «Не телесным, но духовным благовонием обладает истинная святость, не внешней, но внутренней красотой должен обладать христианский подвижник» [Иванов, 2004: 269]. Вериги поэтому здесь оказываются семантически «пустым» знаком, поскольку принадлежат персонажу, который подвизается без смирения и покаяния. Это подвиг, взятый на себя без рассуждения и без духовного благословения, что, в частности, выражается и в непонимании этим персонажем сути старческого служения, и в «бесо-видениях». Ношение вериг усиливает состояние гордости, в котором пребывает персонаж, а не исцеляет от нее. В рассказе А. П. Чехова «Убийство» вериги носит отпавший от Церкви Матвей Терехов. Возвращение этого героя в лоно Церкви сопровождается отказом от ношения вериг и от других аскетических упражнений, взятых на себя самовольно. Это тоже лже-юродивый, его вериги становятся знаком гордости, самомнения. Вериги в рассматриваемых нами произведениях являются знаком, позволяющим характеризовать истинно или ложно юродивых, устремленных к Богу в смиренном сознании своей немощи или горделиво превозносящихся над другими.
Ношение вериг для героев рассматриваемых нами произведений — попытка через вещное, материальное найти выход к вечному, духовному. Такой подвиг оставляет печать «инако-вости» на персонаже, готовом угнетать плоть ради возвышения духа. Однако веригоношение не является безусловной гарантией спасения души. В отличие от святых в древнерусских житиях, литературные герои с веригами в XIX в. необязательно приобщаются к Божьему миру. Тем не менее это попытка преодолеть земное «притяжение» ради обретения Царства Небесного в сюжете богоискательства. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, вводя в повествование героя с веригами, пытаются найти ответ на вопрос: в чем заключается истинное служение Богу? Ценностно значимой для авторов анализируемых нами текстов является православная вера, от которой герой не должен уклоняться, обращаясь лишь к внешним подвигам и оставляя исполнение заповедей о любви к Богу и ближним.