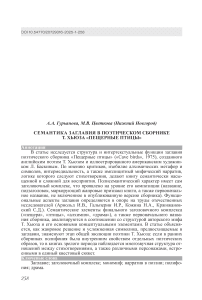Семантика заглавия в поэтическом сборнике Т. Хьюза «Пещерные птицы»
Автор: Гурьянова А.А., Цветкова М.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется структура и интертекстуальные функции заглавия поэтического сборника «Пещерные птицы» («Cave birds», 1975), созданного английским поэтом Т. Хьюзом и иллюстрированного американским художником Л. Баскиным. По мнению критиков, изобилие алхимических метафор и символов, интермедиальность, а также имплицитный мифический нарратив, логике которого следуют стихотворения, делают книгу семантически насыщенной и сложной для восприятия. Полисемантический характер имеет сам заголовочный комплекс, что проявлено на уровне его композиции (название, подзаголовок, маркирующий жанровые признаки книги, а также первоначальное название, не включенное в опубликованную версию сборника). Функциональные аспекты заглавия определяются в опоре на труды отечественных исследователей (Арнольд И.В., Гальперин И.Р., Кожина Н.А., Кржижановский С.Д.). Семантические элементы финального заголовочного комплекса («пещера», «птицы», «алхимия», «драма»), а также первоначального названия сборника, анализируются в соотношении со структурой авторского мифа Т. Хьюза и его основными концептуальными элементами. В статье объясняется, как жанровое решение и усложненная символика, предвосхищаемые в заглавии, знаменуют этап общей эволюции поэтики Т. Хьюза: если в ранних сборниках полифония была внутренним свойством отдельных поэтических образов, то в книгах зрелого периода наблюдается многозвучная структура отношений между стихотворениями, а также различными персонажами, встроенными в единый квестовый сюжет.
Заглавие, заголовочный комплекс, мономиф, нарратив в поэзии, полифония, драма
Короткий адрес: https://sciup.org/149147782
IDR: 149147782 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-258
Текст научной статьи Семантика заглавия в поэтическом сборнике Т. Хьюза «Пещерные птицы»
Title; title complex; monomyth; narrative in poetry; polyphony; drama.
Заглавие художественного произведения как самостоятельная информативная единица и вопросы о типологии, статусе, функциях и семантике заглавий системно стали рассматриваться в отечественной филологии 2-й половины XX в. И.В. Арнольд относила заглавие к «сильной позиции текста», определяемой как «выдвижение на первый план важнейших текстовых смыслов <...>, установление их иерархии, усиление эмоциональности и эстетического эффекта» [Арнольд 1978, 23]. Являясь и именем текста, и его составной частью, заглавие выступает важнейшим элементом «заголовочно-финального комплекса», еще до начала чтения задает векторы восприятия [Орлиц-кий 1998], корректирует оценку текста до, в процессе и после его прочтения [Олизько 2002, 139]. К тому же, заглавие может «выражать авторскую модальность», «выделять сквозной образ», «участвовать в создании художественного времени и пространства», «указывать на литературный жанр», «делать произведение участником общекультурного диалога», то есть быть интертекстуальным [Лицюнь 2004, 8]. И.Р. Гальперин сравнивает заглавие с «пружиной, раскрывающей свои возможности в процессе развертывания» [Гальперин 2009, 133]. По С. Кржижановскому «… книга и есть – развернутое до конца заглавие [курсив С.К.], заглавие же – стянутая до объема двух-трех слов книга» [Кржижановский 1931, 3].
Заглавия поэтических сборников Теда Хьюза прежде никогда не становились объектом отдельного изучения, исследователи его творчества (Т. Гиффорд, Н. Робертс, Э. Фаас, К. Сейгар и Э. Ски) обращались лишь к некоторым аспектам трактовки хьюзовских заглавий зрелого периода («The Crow», «Cave
Birds», «Adam and the Sacred Nine», «Moortown», «Wolfwatching» и т.д.), представляющим особенный филологический интерес. В сборниках 1960–1980 гг. Хьюз сознательно реализовывал скрытый нарратив, опирающийся на кэмпбел-ловскую модель «мономифа», учение о Белой Богине Р. Грейвза и матриархальные мифологемы древних культур. Структура этого имплицитного сюжета содержит в себе мотивы преступления против женского (природного) начала, раскаяние и искупление вины посредством преодоления сложного пути и финального духовного преображения. В связи с этим заглавия сборников также предельно нагружены культурной и мифологической семантикой. В качестве примера далее в статье будет проанализирован поэтический сборник, стихотворения которого объединены общей темой, героем, жанром, сквозными образами, так или иначе предвосхищаемыми уже в сложном заголовочном комплексе: «Пещерные птицы. Алхимическая пещерная драма» («Cave Birds: An Alchemical Cave Drama»).
«Пещерные птицы» – результат сотрудничества Т. Хьюза и американского художника-графика Л. Баскина. В 1974 г. Баскин создал 12 рисунков причудливых птиц, затем Хьюз написал к ним стихи, связанные сюжетом о персонаже, обвиняемом в преступлении против некоего женского существа. Фантастические птицы Баскина у Хьюза стали персонажами судебной драмы. Изначально последовательность стихотворений выглядела так: «Судебный исполнитель» («The Summoner»), «Адвокат» («The Advocate»), «Дознаватель» («The Interrogator»), «Судья» («The Judge»), «Истец» («The Plaintiff»), «Палач» («The Executioner»), «Обвиняемый» («The Accused»), «Возрожденный» («The Risen») и «Финал» («Finale»). Позднее Баскин создал еще несколько изображений, стихотворения к которым представляют собой рефлексию «об опыте пребывания на различных этапах судебного процесса, подобного тому, что описан в Бардо Тодол» [Hughes 2007, 633].
Заглавие было выбрано не сразу: сначала Хьюз озаглавил сборник «Смерть Сократа и его воскрешение в Египте» (англ: «The Death Of Socrates and his Resurrection in Egypt»), критикуя тем самым «сократические абстракции и их влияние на человечество через христианство. Возрождение Сократа в Египте с этой точки зрения означало бы его «“исправление” через погружение в религиозно-магическую стихию Восточного Средиземноморья». Впоследствии Хьюз отказался от этого подзаголовка, чтобы «не ограничивать поэзию историческими рамками и схоластическим багажом» [Hughes 2007, 395]. Тем не менее, первоначальное заглавие свидетельствует о том, что смысловая канва сборника включала для автора такие семантические элементы, как «сократизм», «Египет», «воскрешение». Окончательный заголовочный комплекс выдвигает на первый план другие концепты: «пещера», «птицы», «алхимия», «драма». Однако, и ушедшие в подтекст элементы заглавия несут в себе высокую смысловую концентрацию и нарративный потенциал.
Авторское жанровое определение – «alchemical cave drama» – диктует поиск драматических признаков в книге. Действительно, в ней есть персонажи со своими амплуа, на которые прямо указано в заглавии стихотворения («Судья», «Палач» и т.д.). Также прослеживаются элементы развития драматического сюжета (завязка (умирание героя), развитие действия (прохождение череды посмертных мытарств), кульминация (кристаллизация духа и его высвобождение), развязка (новая материализация). Однако, концепция сборника далека от традиционного представления о драме как литературном роде. Драматизм, с которым читатель сталкивается в «Пещерных птицах», скорее, внутреннего, идейного характера: здесь, как и в других произведениях Хьюза, описывается трагедия современного человека, чье творческое начало подавлено властью разума и гордыни. Драматично положение самого героя, проходящего испытания и преображающегося после смерти. Психический надрыв, изображенный через подчеркнуто физиологические и брутальные метафоры как индивидуальное проявление общей трагедии, показан уже в первом стихотворении сборника: надменная речь персонажа обрывается на полуслове, превращаясь в первобытный крик, с чего и начинается «внутренний» суд над человеком его же психической природой. Т. Гиффорд отмечает, что «Пещерные птицы» – драма внутренних голосов, не действие – но реакция на действие, происходящее скорее между стихотворениями, чем между отдельными голосами» [Gifford 1978, 200].
В отличие от практически обезличенного автора ранних сборников, «Пещерные птицы», вслед за «Вороном» включают несколько режимов авторского присутствия: помимо главного персонажа и голоса автора, читатель сталкивается с широкой полифонией голосов, с разных точек зрения интерпретирующих событие драмы. Динамика сюжета практически отсутствует, по словам Хьюза, в сборнике «каждое стихотворение должно было содержать элементы одной целостной сцены, а также быть статичным, подобным иероглифу» [Bergmann 2008, 156]. Стремление ухватить в сюжете некий ключевой элемент действия было обусловлено поисками Хьюза в области драмы. В 1968 г. поэт сотрудничал с английским режиссером П. Бруком, известным своими экспериментальными постановками. Задачей Хьюза было создавать «зародыши сюжетов» («germs of plots») – идеи для драматических ситуаций, которые актеры впоследствии развивали в импровизациях. Хьюз пришел к выводу, что успех у зрителей имели вариации одних и тех же сюжетных схем, восходящих к мифам. И действительно, сборник «Пещерные птицы» во многом соответствует структуре ранее упомянутого хьюзовского авторского мифа, сочетающего миф о свержении Богини и миф о путешествии героя.
Анализируемая «драма» названа автором «алхимической», а следовательно, содержит не только внешний событийный план, но и глубинный, иносказательный. Как и тексты алхимиков, сборник герметичен, полон туманных символов и предполагает неоднозначность толкований.
В книге «Поэтический квест», целиком посвященной анализу алхимической символики на сборник «Пещерные птицы», Энн Ски приводит таблицу, где сопоставляет стихотворения цикла со стадиями алхимического процесса: «обработка сырого вещества», «первичное очищение», «глубокое очищение», «полный синтез», «кристаллизация», «единение элементов» [Skea 1994, 58].
В алхимических текстах синтез противоположностей нередко изображался через образ опасного путешествия; химические элементы и процессы представлялись через цвета, животных и другие символические образы. Так, знаком ртути мог быть «орел, дракон, роса или радуга» [Sagar 2019, 56].
Хьюз воспринимал алхимию через известный ему еще с юности юнгианский психоанализ, в котором алхимия предстает древним аналогом концепции «психологии бессознательного» [Hughes 2007, 625]. Центральным понятием юнгианской алхимии для Хьюза стал «алхимический брак», знаменующий рождение целостного «я» (self) через соединение женского и мужского начал, что изображается, например, в стихотворении «Жених и невеста три дня лежат сокрытые» («Bride and Groom Lie Hidden for Three Days»):
He gives her her skin
He just seemed to pull it down out of the air and lay it over her <…> She has found his hands for him, and fitted them freshly at the wrists They are amazed at themselves [Hughes 2003, 437].
Так, шаг за шагом, две противоположности сначала «собирают» друг друга по частям (обращает на себя внимание частотноcть «конструкторских» глаголов и метафор: «pull down», «lay over», «fit», «assemble», «sets them in perfect order», «stiches his body here and there», «test each new thing at each new step» и т.д.), а потом сливаются в экстатическом единении (накал которого передан при помощи эмоционально нагруженной лексики: «astonishment», «amazed», «gasping with joy», «cries of wonderment»), сочетающем в себе мотивы сексуального акта, родительской заботы и преображения любовным экстазом:
So, gasping with joy, with cries of wonderment
Like two gods of mud
Sprawling in the dirt, but with infinite care
They bring each other to perfection [Hughes 2003, 437].
Подобный образ «алхимического брака» изображается и в таких стихотворениях сборника, как «Привратник», «Загадка», «Его ноги раскинулись в беге». Мужское и женское, слившись воедино, дают начало рождению нового целого – освобожденного духа (аналог алхимического золота), которым оборачивается герой в стихотворении «Воскресший» («The Risen»):
In the wind-fondled crucible of his splendour
The dirt becomes God [Hughes 2003, 440].
At the end of the ritual
Up comes a goblin [Hughes 2003, 440].
В мифологии гоблины – это человекоподобные создания, живущие, в подземных пещерах и не переносящие солнечного света. Таким образом, герой, прошедший мучительную инициацию, с таким трудом нашедший выход из пещеры на свет, к солнцу, оказывается обреченным начинать свой путь сначала.
Согласно первоначальному замыслу, главным героем сборника должен был стать Сократ. Хьюз, вслед за Ницше и Грейвзом, полагал, что сократическая философия явилась началом неверного пути, по которому пошла Западная цивилизация и который нанес непоправимый ущерб природе, понимаемой не только как «планета Земля» и все ее формы жизни, но и как женственность во всех ее проявлениях.
В «Федоне» Сократ говорит «о душе, заточенной в теле философа и жаждущей освободиться от пут материальной оболочки» [Платон 2020, 289]. Подобное отрицание материального начала в человеке неприемлемо для Хьюза, поскольку ведет к конфликту духовного и телесного.
Мысль о тупиковости сократических идей, наиболее ярко проявившихся в христианских догмах и идеалах Просвещения, отражена в стихотворении «После первого испуга» («After the First Fright»), показывающем беспомощность логики, взывающей к доводам разума на суде. Обвиняемый использует все возможные логические доводы: «I argued my way out of every thought anybody could think» [Hughes 2003, 420], но ответом судьи становятся обескураживающе реакции, самой своей абсурдностью демонстрирующие бессмысленность жонглирования привычными, внешне такими «правильными», но пустыми внутри словами:
When I said: “Civilization”,
He began to chop off his fingers and mourn.
When I said: “Sanity and again Sanity and above all Sanity”,
He disemboweled himself with a cross-shaped cut [Hughes 2003, 420].
Согласно Хьюзу, первый шаг к отречению от ложной рационалистической философии – это смирение, пафос которого пронизывает стихотворение «Обвиняемый» и рисунок к стихотворению, подписанный самим Хьюзом «Петушок Сократа» («Socrates Cock») [Sagar 1978, 243]:
Accused
Confesses his body
The gripful of daggers
And confesses his skin – the bedaubed, begauded [Hughes 2003, 425].
Стоит отметить, что окончательное название сборника смещает акцент с Сократа на всякого человека – то, что в англоязычной традиции определяется емким словом «Everyman».
Первоначальная версия названия сборника сообщала читателю о перерождении Сократа в Египте, который ассоциировался у Хьюза с плавильным котлом разнообразных религиозных учений. В эссе «Шекспир и Богиня Полноты бытия» поэт постоянно апеллирует к М. Элиаде, исследовавшему влияние египетской магии на европейский оккультизм. [Hughes 1992, 20]. «Богатую египетскую основу» [Hughes 1992, 268] Хьюз обнаруживает даже во многих пьесах Шекспира, которую, по убеждению поэта, великий драматург сознательно зашифровывал в символике «Гамлета», «Антония Клеопатры», «Короля Лира» и т.д. [Hughes 1992, 268].
Отрицавшему опирающуюся на рацио сократическую мысль Хьюзу импонировала мистическая картина мира древних египтян, их тенденция уклоняться от прогресса, предпочитая поддерживать дарованный богами статус-кво. По замыслу поэта, главный персонаж после мучительного пути и трансформации в стихотворении «Воскресший» преображается в Гора, египетского бога Неба и Солнца, традиционно изображавшегося в облике сокола, человека с головой сокола или крылатого солнца. Таким образом он возвращает свет и уверенность в наступлении нового дня, тем самым подчиняя Сета, олицетворяющего ужасы тьмы и смерти.
Исследователи творчества Хьюза нередко отмечали, что образы птиц являются одними из наиболее семантически нагруженных во всем наследии поэта. К. Сейгар, Э. Фаас, C. Хиршберг, Т. Гиффорд, Н. Робертс, Л. Шигай и др. рассматривали мифологический аспект образов птиц в сборниках «Ястреб под дождем», «Ворон», «Прометей на своей скале». Э. Ски подробно исследовала оккультную символику птиц, задействованную в книгах «Пещерные птицы» и «Адам и священная девятка». В ранней хьюзовской поэзии образы птиц у многих ассоциировались с насилием и жестокостью, затем в них стали видеть аллегорическое изображение этических аспектов человеческого мира.
Очевидно, что образы птиц пронизывают все поэтическое пространство сборника, а лексема «птицы» становится доминантой заголовочного комплекса книги. «Птицы» символизируют участников судебного процесса, которые, в свою очередь, указывают на внутренний психический конфликт главного героя. Птицы также являются вестниками решающих моментов жизни главного персонажа. Так, в стихотворении «Она казалась такой внимательной» птица сообщает о крахе прежнего мира персонажа:
Then the bird came.
She said: your world has died [Hughes 2003, 421].
Образ птицы в стихотворении «Истец», сотканный из ярких импрессионистских метафор, тоже знаменует одно из прозрений главного персонажа: животворящий свет его жизни до настоящего момента таился тьме его собственного сердца.
Стихотворение «Освежеванный ворон в зале суда» указывает на состояние абсолютной наготы и покорности осужденного, представшего перед судьями в неведении перед грядущим:
Where am I going? What will come to me here?
Is this everlasting? Is it
Stoppage and the start of nothing?
What feathers shall I have? What is my weakness good for?
A great fear rests on thing I am as a feather on a hand
I shall not fight
Against whatever that allotted to me [Hughes 2003, 421].
Угнетенное состояние главного персонажа не раз обозначается посредством метафорики больных или мертвых птиц: «begauded ea-gle-dancer», «And his hard life-last – the blind / Swan of insemination» («Accused»), «Even the dusty dead sparrow’s eye / Lifts the head off me» («In these fading moments I want to say»).
В ряде стихотворений символика птиц тесно связана с египетской мифологией (египтяне, воспринимавшие птиц как божественных посланников, считали, что душа после смерти тела принимает форму птицы) и с алхимией. Так, в стихотворении «Дознаватель», как и на рисунке, его сопровождающем, центральным образом является стервятник:
This bird is the sun’s keyhole.
The sun spies through her [Hughes 2003, 421].
Э. Ски отмечает, что образ стервятника в книге постепенно трансформируется, сигнализируя переход от умерщвления к разложению в алхимическом процессе: из птицы-разрушительницы в «Дознавателе» она превращается в ангела-утешителя в стихотворении «Она казалась такой внимательной»:
Wings’, I thought, ‘Is this an angel? [Hughes 2003, 422].
Последнее стихотворение исследовательница сравнивает с возвращением в материнскую утробу, которое в духовных учениях предшествует перерождению [Skea 1994].
Таким образом, заголовочный комплекс «Пещерных птиц» обнаруживает следующие функции: текстообразование, организация читательского восприятия, прогноз последующего содержания, выражение авторской модальности, выделение сквозного образа текста, участие в создании художественного времени и пространства, указание на литературный жанр произведения. Заглавие исследуемого сборника носит аллюзивно-метафориче-ский характер, обладает высоким кумулятивным потенциалом, поскольку интерпретация каждой языковой единицы заглавия предвосхищает интерпретацию стихотворений сборника.
Сборник «Пещерные птицы» является важным этапом общей эволюции творчества Т. Хьюза, причем процесс трансформации характерных для него мотивов можно наблюдать уже на уровне заглавия сборника. Если ранние поэтические книги и отдельные стихотворения Хьюза представляли собой наименование птицы в единственном числе («Ворон», «Ястреб под дождем», «Ястреб на дереве»), то начиная с «Пещерных птиц» в заглавии появляется символизм множественности (например, в «Адаме и священной девятке», где «девятка» - это количество божественных птиц, прилетающих к главному персонажу).
Множество нарративных пластов, полифония голосов персонажей в сборнике «Пещерные птицы» имеют также цель усиленной концентрации читательского внимания, и глобальнее - отказа от индивидуальной и коллективной амнезии. Одной из наиболее болезненных для поэта тем всегда был автоматизм существования, в котором виновен сам человек: «Вина, о которой ведется речь в стихотворении “Призывающий к ответу” – это вина перед собой, когда нам внезапно выставляется счет за все действия и опыт, приобретённый нами за годы нашей жизни. <...> “Призывающий к ответу” – это и есть наше собственное тело – наш защитник и друг до того момента, когда он постепенно или внезапно берет нас под арест и ведет в суд» [Hughes 2007, 397].
В этом смысле и заглавие, и содержание поэтического сборника «Пещерные птицы», призваны вызволить читателя из автоматизма существования, освободить его от иллюзорности восприятия посредством усложненного чтения и интерпретации текста. Немаловажно также, что последние строки сборника звучат «приземляюще» иронично - в конце всей этой глобальной мистерии рождается гоблин. Этим автор показывает, что целостность всегда недосягаема, потому что «тотальность человека» по определению находится за пределами сознания, и теневую фигуру необходимо учиться в себе признавать, чтобы в очередной раз не оказаться на судебном процессе по обвинению в преступлении против себя самого.