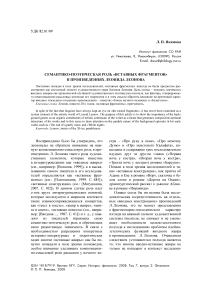Семантико-поэтическая роль «вставных фрагментов» в произведениях Леонида Леонова
Автор: Якимова Л.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Постоянно попадая в поле зрения исследователей, «вставные фрагменты» никогда не были предметом рассмотрения как системный элемент художественного мира Леонида Леонова. Цель статьи - показать значимость вводных жанров как органической составной художественного континуума писателя, как фактора, генерирующего композиционно-смысловые интенции его творчества и в этом смысле обратить внимание на притчевый характер вводных эпизодов в его ранних произведениях - повестях «Конец мелкого человека» и «Белая ночь».
Короткий адрес: https://sciup.org/14736953
IDR: 14736953 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Семантико-поэтическая роль «вставных фрагментов» в произведениях Леонида Леонова
Несправедливо было бы утверждать, что леоноведы не обратили внимание на важную композиционно-смысловую роль в произведениях Л. Леонова такого рода художественных элементов, которые известны в литературоведении как «вводные жанры» (см., например: [Волкова, 1999]), а в высказываниях самого писателя и его исследователей определяются как «вставные фрагменты» (см.: [Платошкина, 1999. С. 485]), «вставные конструкции» (см.: [Матушкина, 2007. С. 102]). В данном случае речь идет о том круге литературоведческих понятий, которые исследуются в широком контексте таких взаимосоприкасающихся концептов, как «текст в тексте», «жанр в жанре», «книга в книге», «вставная новелла» (см., например: [Вводная…, 1987. С. 61]) и т. д., у каждого из писателей играющих свою семантико-поэтическую роль и обретающих свою рецептивную значимость. В связи с необходимостью разрешения конкретных историко-литературных и теоретических задач многие «вставные жанры» как бы попутно попадали в поле зрения леоноведов, особое внимание уделивших композиционно-смысловой роли рассказов у ночного ко- стра – «Про руку в окне», «Про немочку Дуню» и «Про неистового Калафата», вошедших в содержание трех последовательно идущих друг за другом главок («Первая ночь у костра», «Вторая ночь у костра», «Третья ночь у костра») романа «Барсуки». Попали в поле зрения исследователей и такие «вставные конструкции», как притча об Адаме и Еве в романе «Вор», сказочка о белом слоне в романе «Дорога на Океан», драматургический рассказ о дьяконе Аблаеве в романе «Пирамида».
Однако сколь бы ни велика была исследовательская сосредоточенность на отдельных «вводных конструкциях» произведений Л. Леонова, это не меняет представления о фрагментарно-эпизодическом характере взгляда на важный элемент художественной системы писателя, не снимает и не уменьшает необходимости цельно-системного подхода к исследованию проблемы идейноэстетических функций вводного жанра в произведениях Л. Леонова. Очевидным следствием устоявшегося подхода является то, что многие вводно-вставные жанры не только не попадают в контекст исследова-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Л. П. Якимова, 2008
тельского внимания, но даже и не воспринимаются как таковые.
О значимости вводных жанров как органической составной художественного континуума Л. Леонова, как фактора, генерирующего композиционно-смысловые интенции его творческого мира, свидетельствует согласованность внутренней и внешней сторон его проявления – и то, что вводные жанры предстают как текстовая реальность не только многих его романов – от «Барсуков» до «Пирамиды», но и произведений другой жанровой природы, в частности, повестей; и то, что осмысление их поэтикосемантических функций является важной стороной его писательской авторефлексии, изначально неотменимого понимания им особой роли вставных конструкций как «авторского поворота в решении важной проблемы» [Платошкина, 1999. С. 485].
Неспешные, «размыслительные», разговоры о принципах творческой работы, зафиксированные Г. Платошкиной в ее «Воспоминаниях о Леониде Леонове», существенно обогащают представление о своеобразии художественного мира писателя, предстающего еще и в фокусе самоанализа, и по значимости откровений в сфере эстетических исканий могут быть приравнены к тем известным в леоноведе-нии интервью, которые дал писатель А. Г. Лысову и В. И. Хрулеву уже в момент подготовки «Пирамиды» как «последней книги» к печати (см.: [Леонов, 1989; Хрулев, 2005. С. 408–423, 452–461]). В широко распахнутом временном контексте во всей очевидности проступает редкое у писателей советской эпохи стремление Л. Леонова в ситуации невиданного, – пользуясь сквозными образами новой литературы, – «пролома», «разгрома», «разлома», «борьбы миров», «жестокости» и т. д., прорваться к целостному образу мира, обрести не уравнивающую всех, а объединяющую все человечество идею, в неостановимом бурлении сиюминутно-злободневных интересов не утратить представление о человеке в целом как феномене, субъекте Большой истории, восходящем к пока и до сих пор непознанной еще Тайне. В свете такого представления о целях творческой работы произведение мыслится как художественная модель земного обитания человека, откуда и проистекает редкая озабоченность писателя обретением его композиционной слаженности, согласованности всех его сюжетносмысловых координат: «Я, – признается писатель, – всегда исходил из композиции мыслительной, логической… Произведение – как живой организм. В нем есть свои артерии, основные точки, мосты – из одного места романа в другое. Они меня успокаивают относительно прочности произведения. Такая связь – это координата (она может быть и кривой), которая проходит через весь роман. Соответствие координат делает равновесным состояние самого изображения. Необходимо, чтобы все линии – мыслительная, образная, композиционная – работали во имя одной цели…» [Платошкина, 1999. С. 479–480].
Можно сказать, что отличительную особенность мемуаров Г. Платошкиной, обильно включающих момент интервьюирования, составляют вопросы, акцентирующие размышления писателя, главным образом на том, как именно, какими путями и средствами достигает он желаемой глубины и полноты в воплощении владеющей им и все «объединяющей идеи», как возникает «эпическое звучание» произведения, какими творческими усилиями создается в творчестве единая и стройная «мелодия судьбы человека» на Земле и как в конечном счете преодолевается опасность сведения человека к земной горизонтали эгоцентризма и потребительства и не утрачивается представление о вертикали как главном смысле человеческой жизни, ибо «важно, – говорит Л. Леонов, – чувство вертикального родства, а не горизонтального» [Там же. С. 507]. И действительно, если за пределами этого мира нет ничего, кроме пустоты, то зачем, спрашивается, и краткий миг человеческой жизни на Земле? «Мне хотелось, – подчеркивает Г. Платошкина, – услышать от Л. Леонова, каковы в таком случае его композиционные принципы, как именно в процессе творчества постепенно строится само произведение как часть общей мыслительной системы» [Там же. С. 479].
В контексте данной статьи весьма значимым представляется отметить, что в «Воспоминаниях…» Г. Платошкиной нашел непосредственно конкретное выражение редкий случай целенаправленного внимания писателя к вводным жанрам как не случайным или каким-то побочным элементам художественной системы, а как эффективному способу концентрации «собственной про- блемы». В связи с этим необходимо специально остановиться на высказываниях писателя, выявляющих характер связи повествования в целом и вставных эпизодов, композиционной целостности и видимых отступлений от нее. «…Все произведение, – настаивает он, – должно быть таким: если его распустить, как свитер, то нитка должна быть одна, хотя узлы могут быть. Оно должно быть сделано словно бы одним голосом… Главное, чтобы все координаты и все точки соответствовали друг другу» [Там же. С. 480].
Прежде всего здесь нельзя не обратить внимание на слово-понятие «узлы», вне всякого сомнения предстающее как метафорическое обозначение вставных конструкций, или как их еще определил писатель в беседе с В. И. Хрулевым, «конструктивных пассажей» [Хрулев, 2005]. Эти «узлы», призванные притормозить скорость чтения, внешне как бы отвлекающие внимание читателя от беспрепятственного развертывания нарративного конфликта, на самом деле, будучи неспешно развязанными, в действительности не нарушают цельности повествования, не разрывают его единой нити. Конструктивная же роль их огромна: они как бы концентрируют смысловую энергию всего произведения, именно в них его идейносемантическое ядро уплотняется иногда до значения художественного символа, до притчевой меры обобщения.
Симптоматично, что Л. Леонов сам и определяет основные контуры жанрового ряда вставных эпизодов, тем самым облегчая пути к пониманию их смыслогенерирующей сути: «Легенду о Калафате, – сетует он, – трактовали неверно, как и многое в романе “Вор”. Помните, в притче об Адаме и Еве есть хорошая мысль… Вот и белый слон в “Дороге на Океан”: его усмирили, поставили “молнию”; стал он покорным, хорошим, но уже не тот, каким был. Это эволюция мечты души. Я не раз выражал мысль: разум познает только то, что ведает душа» [Платошкина, 1999. С. 469–470]. (В романе «Скутаревский» эта формула звучит в таком варианте: «наука открывает только то, что душа уже знает».)
Собственно здесь из всей совокупности вставных эпизодов, когда-либо проявившихся в текстовом континууме Леонова, автор назвал самые ключевые и знаковые – легенду о Калафате из «Барсуков», притчу об Адаме и Еве из «Вора», сказочку о белом слоне из «Дороге на Океан», выведя при этом и общую формулу их смыслового содержания, выраженную в афоризме о неот-менимости ценности человеческой души, живущей по законам связи с Вертикалью. Включенные в романы о постреволюционной действительности, обернувшейся в России «огнедышащей новью», начиная от событий гражданской войны, как в «Барсуках», до эпохи бурной реконструкции и строительства социализма, как в «Дороге на Океан», они как бы предупреждают строителей нового мира об опасности безоглядного самообольщения успехами технического прогресса, трагически непреодолимого разрыва между желаниями и возможностями человека, благими целями и действительными результатами.
Понимание значимости идейно-эстетических функций вводного жанра в художественной системе Леонова, сама регулярность его использования писателем логично предполагают неизбежность появления литературоведческого труда монографического характера, т. е. сквозным образом исследующего проблему, важную не только в историко-литературном, но и теоретическом аспекте, позволяющем, в частности, подвергнуть проверке тезис, характеризующий «вводный жанр как специфически романное свойство, с одной стороны, и как свойство, обусловленное особенностями реалистического типа романа, с другой» [Волкова, 1999. С. 17–18]. В случае с Леоновым приобретает самостоятельное значение и сам принцип выборки «конструкций», «фрагментов», эпизодов, определяемых как вводные, и факт творческой эволюции писателя, сказавшийся на изменении родовой природы вставных фрагментов: так «конструктивные пассажи» романа-наваждения «Пирамида», панорамно развернутые в виде апокалиптических снов и видений его героев, предстают уже как проявление художественной системы, отличной от любого «трезвого реализма», другого творческого метода, близкого, скорее всего, к экзистенциальному реализму.
Между тем в современном литературоведении уже появилась работа, по-своему откликнувшаяся на потребность пролить новый свет на сложность жанровых построений Леонова в аспекте использования вводных жанров. Речь идет о неболь- шой книжечке польского исследователя Фридерика Листвана «Леонид Леонов. Афоризмы» (Ульяновск, 2006), первую часть которой составляет рассмотрение идейноэстетических функций афоризма в общей структуре леоновского текста, вторую – сами афоризмы, выборка которых из общего массива художественно наследия писателя представляется не менее важной и ответственной задачей исследования. Произведя такого рода системную выемку, исследователь тем самым обнажил в произведениях Леонова особый текстовый пласт, своего рода текст в тексте, скрытое, но устойчивопостоянное присутствие малого жанра внутри открыто предъявляемой читателю большой жанровой структуры. В склонности писателя к афористическому мышлению, подобно капле отражающей общий состав воды в океане, Ф. Листван справедливо усматривает парадигмальные свойства художественного мира писателя, ориентированного на создание образов интегрирующей силы.
Следует признать, что задача уяснения глубин эстетической связи афоризма как жанра с общей структурой художественного текста Леонова лишь поставлена, но важно, что как большая исследовательская проблема она заявлена, определена и векторно обозначена. Вектором же этим, думается, является понимание того, что если леоновский афоризм обнаруживает природу своей смысловой и эстетической идентичности в контексте главных координат творческого мира писателя, то и выявление внутренней логики афоризма способствует уточнению этих координат, что вполне соотносимо с тем, что происходит у Леонова с другими вводными жанрами, будь то рассказ, легенда, сказка, сон-видение или даже, как в «Русском лесе», лекция Вихрова.
В данной работе не преследуется цель сквозного исследования идейно-эстетических функций вводного жанра в творчестве Л. Леонова, целью ее является обозначить достойную монографического внимания проблему на примере такого рода вставных эпизодов, которые в этом качестве никогда не осознавались и как таковое в поле зрения литературоведов не попадали. Речь пойдет о двух вставных эпизодах из ранних повестей Л. Леонова «Конец мелкого человека» (1922–1924) и «Белая ночь» (1928), во многом совпадающих по своим композиционно- тематическим параметрам. Оба они представляют собой поучительный случай из биографии одного из далеко не главных героев повести, рассказанных в компании людей, отторгнутых революцией, не принятых ею и не принявших ее. Разумеется, семантико-поэтическая роль каждого из этих эпизодов может быть раскрыта в контексте художественного содержания повестей, что в свою очередь не может не сказаться на углубленном понимании их содержания 1. ∗
Повесть «Конец мелкого человека» относится к числу произведений, ознаменовавших крутой поворот писателя от увлечения «чистым искусством», экспериментами формально-стилевого характера, к живой и полной кричащих противоречий действительности 20-х гг. Прихотливые взлеты поэтической фантазии решительно уступили место острому вниманию к суровой реальности «огнедышащей нови». Если еще недавно жгучие проблемы современности лишь смутно просвечивали через сложную призму пространственных, временных, исторических, психологических пересечений и представали в иносказательном варианте, то в повести 20-х гг. Леонов с неотступным бесстрашием, что называется, лицом к лицу повернулся к разворошенному революцией российскому бытию, и оно явило читателю свой подлинный образ, далекий от официальных предписаний.
Смелость молодого писателя проявилась в самом выборе творческого ракурса. Взгляду на революцию исключительно со стороны победителей оказался противопоставлен взгляд «изнутри» лагеря побежденных, что стало возможным в новой литературе лишь позднее и связано с появлением повести М. Булгакова «Белая гвардия» и его пьесы «Дни Турбиных», шедшей в театре с высшего соизволения самого Вождя. Но это, казалось бы, простое изменение позиции свидетельствовало о поступке далеко не формального характера, не о внешней лишь смене точек видения наступившего времени, а было отражением иной антропологической позиции, глубоко отличной от официальной, более того, это было внутренним проявлением совсем другой философии человека, качественно другой онтологии. Логично отметить, что как автор романа века «Пирамида», по определению самого Леонова, даже в жанровом смысле – «последней книги» в основных чертах своего мировоззрения и понимания природы человека он обозначился именно в повести «Конец мелкого человека» (см.: [Якимова, 2007а. С. 48–84]).
Вызывающая необъятность творческого хода Леонова полемически обозначилась в общем пространстве новой литературы, где «конец» такого рода людей, как герой повести ученый палеонтолог, профессор Лихарев, усомнившийся в оправданности революционного «перекувырка», воспринимался как исторически закономерный и онтологически обусловленный. Человек «общепризнанной порядочности», отменного трудолюбия и природного дарования, почему научное имя его ценилось так высоко у нас и как будто даже за границей» [Леонов, 1981. С. 215] (далее в круглых скобках указаны страницы этого издания), одним махом чужой воли становится бессильной жертвой «огнедышащей нови», попадает в разряд «мелких», «бывших», «лишних», попросту «конченных». Показательно, что и критика, не вняв особости авторской позиции, заявленной множеством выразительных средств художественной связности, не выделила ее из общего потока произведений, оправдывающих «конец» неисчислимой массы людей, усомнившихся в революции: «Леонов, – утверждал известнейший критик 20-х гг. А. Воронский, – впервые показал гибель и распад старой интеллигентной подворотни дней революции, он ввел нас в паноптикум “мозга страны”. Образы Лихарева, Ёлкова, Кромулина, Титуса, Водянова, Елены, хотя и навеяны Достоевским, но правдивы, художественно верны и убедительны. В частности, художник подвел черту и нашей российской интеллигентской достоевщине» [Воронский, 1928. С. 9]. Приходится признать, что по этому ложному оценочному курсу повесть проходила вплоть до последнего времени, когда не только изменилась идеологическая конь-юнктура в стране, но существенно усовершенствовался и сам методологический арсенал литературоведения, когда актуализировались принципы герменевтики, рецептивной эстетики, рекурсивного чтения, мо-тивного анализа, интертекстуальности и т. д. Тогда-то с предельной очевидностью и открылось, какой мощный механизм когезии, внутритекстовых и межтекстовых связей работает в повести, начиная от заглавия, имени героя, аллюзивно-реминисцентных отсылок. Главным же началом художественной связности текста явилось то, что соотносится с понятием метатекста, использованием «чужого текста» и восходило прежде всего к имени Достоевского. «Не заметить» Достоевского в повести «Конец мелкого человека» было невозможно, и эту изначальную связь с писателем, которого позднее Леонов назовет «пророком», сохранившуюся у него до «последней книги», в разные периоды литературоведения расценивали по-разному, в момент же появления повести не иначе как только в аспекте подражания начинающего писателя маститому: «Он в принципе pasticheur (имитатор), – утверждает Д. Святополк-Мирский, – но pasticheur высокого класса. “Конец мелкого человека” – мастерский пастиш Достоевского» [Святополк-Мирский, 2007. С. 798]. В действительности же это был глубоко осознанный Леоновым диалог с писателем, горячо и неустанно размышлявшим на вечную тему о природе – натуре – феномене человека и о вечном же его стремлении к устройству рая на земле, в определенных исторических условиях отождествимшимся с понятием социализма. Обретя непостижимо сложный опыт обживания земли, начиная от мезозойской пещеры, легко ли впишется современный человек – и впишется ли вообще – в социальную структуру всеобщего соединения людей по социалистическим принципам математически обязательного и равного для всех счастья, что восходит к таким жизнестроительным символам, как «вавилонская башня», «муравейник», «хрустальный дворец».
Одним из важных моментов, способствовавших усилению фактора Достоевского в повести было то, что начиная с 20-х гг. в центре внимания советских литературоведов оказалась «специфика художественной полемики Достоевского с революционными демократами (Чернышевский, Добролюбов, Писарев и др.) в “Зимних заметках о летних впечатлениях”, “Скверном анекдоте”, “Крокодиле”, “Записках из подполья”, “Преступлении и наказании”, “Идиоте”, “Бесах”» [Туниманов, 1982. С. 271], и Леонову вне всякого сомнения известны были высказывания писателя о типичных рассуждениях
«настоящего человека русского большинства», обнажающих «уродливую и трагическую сторону» его натуры: «Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить» [Достоевский, 1973. С. 381]. Глубинно резонировала с мироощущением Леонова и мысль Достоевского об экзистенциальной природе зла и в этом аспекте о легковерии разного рода социальных архитекторов, намеревающихся путем простой смены обстоятельств исправить человеческую натуру: «Ясно и понятно до очевидности, – писал Достоевский, – что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекари-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа столь же неизвестны, столь же неведомы науке, столь же не определены и столь таинственны, что нет и не может быть не лекарей, ни даже судей окончательных» [Достоевский, 1982. С. 201].
Полностью лишенный имущественноправового состояния, т. е. принадлежности самому себе, вынужденный питаться кашей из конской головы и ходить в гости с собственным поленом дров, Федор Андреевич Лихарев не лишился способности к здравому размышлению о наступившем времени и месте человека в нем прежде всего в аспекте поиска лучших форм жизнестроения. «Я-то виноват, что им потребовалось весь этот перекувырк устраивать?» (с. 219), – в отчаянии вопрошает он. Прежде чем совершать очередной исторический «переку-вырк», не худо было бы заглянуть в «истинные потемки человеческой души» и задуматься, есть ли оправдание страданий сегодняшнего человека ради отдаленного прекрасного будущего, неодолимых мук отдельной личности ради общего благоденствия. И вообще, соединима ли мечта о всеобщей гармонии и равном для всех счастье с человеческим интересом конкретного индивидуума. И есть ли у отдельного человека право вторгаться в хрупкую природу общественного благоустройства, если «ему на всех этапах развития вполне хватало знаний для объяснения всего на свете: даже в своей мезозойской пещере он думал, что понимает все» (с. 266).
Все эти мысли болезненно сгущаются и обостряются в сознании профессора еще и в результате посещений им пятничных собраний в квартире доктора Ёлкова, где в жажде простого человеческого общения сбиваются в свой круг люди, как и он, отверженные новой властью, под граммофонный аккомпанемент безутешного Тито Руф-фо и чтения пессимистических стихов местного поэта Кромулина мучительно пытаясь найти ответ все на те же вечные вопросы, которым текущий момент придал небывалую остроту: именно от того, что есть человек – «центр мирозданья» (с. 227) или это «мошки разные, этакие жуки хватательные (с. 237), соотнесутся ли способности ставить сознательные цели и «подсознательные человеческие побуждения» – «в смысле добра и злодейства» (с. 238) зависит судьба осуществляемого в стране социального проекта и вообще характер челове-коустройства на земле.
И если маленькая семейная ячейка профессора Лихарева и трогательно любящей его сестры Елены, куда заходит еще иногда доброхотный покровитель науки Мухоло-вич, предстает как один персонажный центр повести, то второй составляет компания Ёл-кова, групповой портрет которой воссоздан красками, способными передать сложную диалектику человеческой души, но ни в малой степени не подтверждающими авторского отношения к интеллигенции как «паноптикуму» или подворотне жизни.
Акценты представлений о натуре человека в повести «Конец мелкого человека» способны передвигаться, смещаться, меняться местами, оставляя сложность проблемы открытой… Превалирует мысль то о неготовности человека к созданию идеального общества, то о несоответствии избранного жизнестроительства природе человека, но главным образом, о непознанности «натуры людской», обрекающей любой жизнестроительный проект на провал: «Направляясь в неизвестность ни с чем не стыдно идти» (с. 243).
Сквозную мысль повести о вековечной широте человеческой натуры, не укладывающейся в прокрустово ложе глобальных проектов, не поддающейся выпрямлению, упрощению, подмене, о несравнимой глубине душевного конфликта перед всеми другими формами жизненного неустройства, загадках и потемках человеческой души, призван наглядно подтвердить конкретный пример из жизни Титуса, рассказанный им в компании Ёлкова случай, композиционно предстающий в общем повествовании как типичный вводный эпизод, хотя таковым никогда и ни кем не опознавался. «Что-то непоправимое происходило с этим человеком, – проникновенно размышляет автор, – и если только не сыпным тифом заболевал, значит, бывают и другие недуги, что сопровождаются подобным же помутнением взора, чернотой глазниц, безразличием к окружающему. Но, что бы ни происходило с ним, значит, даже на людях, в мучительной обстановке перекрестного любопытства, было ему все же легче, чем наедине с собой» (с. 253).
Этот герой так же, как и другие, страдает от голода, холода, полнейшей разрушенности быта («окна без стекол, одеялом забито… и надо всю ночь ходить…»), но все меркнет и отступает на второй план перед внутренним неблагополучием, разладом с самим собой. Испепеляющее и разрушающее изнутри нетерпение освободиться от «душевного нарыва», снять «накипь с души» выливается в исповедь. Он рассказывает историю некоего Жеромского, сослуживца по артиллерийской бригаде, «крайне неприятного человека», слывшего забиякой и фанфароном, сочинившего демоническую маску: ходили слухи, что «будто средневековый яд в перстне носил…». Свой рассказ Титус ведет в намекающее-околичной, иносказательной форме, и поначалу он напоминает типичную байку, какими обмениваются в офицерских компаниях, в своем роде гусарскую новеллу в духе «Интересных мужчин» Н. Лескова или «Брегета» А. Куприна, где актуализированы мотивы любовных влечений, столкновения амбиций, защиты чести и достоинства, опасных розыгрышей, дуэлей и т. д. Во всяком случае жанровая память о такого рода произведениях, в изобилии бытовавших в русской литературе и пользовавшихся спросом читателя со времен пушкинского «Выстрела», и момент их интертекстуализа-ции в рассказе Титуса весьма ощутим.
Не поделивший сердечного расположения уездной барышни с поэтом Варнавиным Жеромский, по рассказу Титуса, во избежание громкой и скандальной дуэли предлага- ет сопернику удовлетвориться тихим способом разрешения спора. На глазах у всех он высыпает содержание своего перстня в два бокала, производит путаную рокировку и предлагает поэту выпить любой из них за здоровье прекрасной дамы. С мыслью о страданиях престарелых родителей, у которых он единственный сын, Варнавин в смятении убегает, после чего Жеромский спокойно опрокидывает один бокал за другим, садится на стул и принимается за раскуривание трубки. Яда в бокалах не оказалось: «это была всего лишь шутка… обычная сода была». А что же Варнавин: в страхе быть обвиненным в трусости и скомпрометированным в глазах барышни, он тут же застрелился, как ушел. Таков внешний контур рассказа Титуса, но не его внутренний смысл. В действительности же, похожая на гусарскую байку история оборачивается психологической драмой, в финале которой видится душевный катарсис героя. Жеромский оказался далеко не тем бретером и демоном, маску которых сочинил себе. Да и не было никакого Жеромского: по той степени душевного смятения, которое выдавал и внешний облик Титуса, и сбивчиво-нервный тон его повествования слушатели поняли, что речь идет о нем самом, что потаенная цель его рассказа – исповедь, покаяние, душевное очищение от грехов всеведения и гордыни, от тяги к бесовским играм, ради чего и проявлена им решимость пройти через муки разоблачения, взойти на костер публичного осуждения – и тем самым явить пример истинного человеческого поведения.
Искушенные в метафизических «дискуссиях» гости Ёлкова схватывают назидательно-притчевый смысл истории Титуса и требуют из нее выводов более широкого, может быть, даже исторического порядка: «Поскольку вы заняли вниманье наше, – решительно заявляет Водянов, – хотел бы я выяснить смысл как содеянного вашим Жеромским преступления, так равно и басни вашей в целом» (с. 241). Слово, определяющее жанровый характер рассказа Титуса, произнесено – это «басня», что родственно понятию притчи и что, по безоговорочно-точному суждению С. Аверинцева, всегда бывает сопряжено с «выходом к этическим первоосновам человеческого существования, к внутренне обязательному и необходимому» [Аверинцев, 1971. С. 21].
По внутренней логике леоновского нарратива рассказ о блужданиях человеческой души плавно перетекает в размышления героев о потемках человеческого бытия, неразгаданном ходе мировой истории, что в конечном счете на глубине каких-то не прочитанных горизонтов авторского текста отдает мыслью о тщете человеческих намерений отыскать земной путь, одинаково годный для всех времен и народов: «А скажите, во всей истории людской, в Астиагах этих и Дариях, в героях корсиканских и македонских виден нам какой-нибудь единый замысел?.. в непрерывных злодействах во имя целей, так и не осуществленных никогда, во имя креста, полумесяца и других геометрических фигур…» (с. 241). «Особливо в наши дни» это звучало весьма актуально.
Как отдельный поэтико-стилевой факт вводный эпизод о Титусе из повести «Конец мелкого человека» может и не свидетельствовать в пользу целенаправленных действий Леонова, но опознание ряда подобных нарративных «случаев» уже не может не рассматриваться как явление типологического порядка, вне художественной стратегии писателя. В этом убеждает повесть «Белая ночь», входящая в цикл повестей Леонова 20-х гг. о революции, гражданской войне, отделенная от повести «Конец мелкого человека» целыми пятью годами, но сходная с ней по характеру идейно-композиционного сложения. В «Белой ночи» просматривается та же склонность автора к четкому обозначению персонажных центров и выделению в одном из них самостоятельного рассказа одного из героев, своего рода примечательного случая из его жизни, опознание которого в системе вводных эпизодов не вызывает сомнения, тем более, что уже был создан роман «Барсуки», где вводный эпизод как таковой был акцентирован самим автором путем графической, стилистической и архитектонической однотипности (в «Первой ночи у костра» – «Про немочку Дуню», во «Второй ночи у костра» – «Про руку в окне», в «Третьей ночи у костра» – «Про неистового Калафата»).
В «Белой ночи» судьба главных героев – поручика Пальчикова и крестьянина Кру-чинкина, связанных воедино невидимыми нитями и поданных крупным планом, композиционно уравновешена групповым портретом компании белых офицеров, обреченных на ожидание своего «конца» в осаж- денном красными Няндорске, «непорочной российской щели» на берегу Северного моря. Кроме Пальчикова, в офицерский круг входят ротмистр Краге, из потомственных военных; «молодой и незамысловатый» генерал Ситников, «из северодвинских пароходчиков»; тоже молодой и бездумно веселый прапорщик Мишка и штабс-капитан Егоров, «с калмыковатым лицом, из сереньких, и без особого труда угадывалось, что дальше своего чина он не пойдет» (с. 455). Когда поручик вошел в офицерскую компанию, именно Егоров, веселя публику («у Мишки от хохота подтяжки лопнули!») «кое-какие случаи из жизни рассказывал…» (с. 453). А propos следует заметить, что к изображению лагеря белых не «со стороны», а «изнутри» писатель прибегает в «Белой ночи» не впервые, как настаивает Т. В. Вахитова, только в отличие от повести «Конец мелкого человека» побежденные представлены здесь средой не штатской, а военной интеллигенции.
Итак, слово опять названо, читатель предупрежден: и предстоящий рассказ Егорова тоже будет «случаем жизни». Сохраняя притчевый смысл выхода к «внутренне обязательному и необходимому», в вводном эпизоде «Белой ночи» Леонов разрешает личностную драму противоположного – в сравнении с повестью «Конец мелкого человека» – характера. Если Титус, пробиваясь к первобытию, первоосновам своей человеческой подлинности, сдирает с себя чужие маски, то Егоров, наоборот, пытается укорениться в жизни путем примеривания и приживления их. Испытывая тяжелый комплекс неполноценности, особенно в присутствии «притягательного поручика», и стремясь казаться «своим» в чужом кругу богатых, удачливых и более образованных сослуживцев, «он все время незаметно петушился под этакого забияку и наглеца» (с. 455), и тем же тоном гусарской бравады исполнен его рассказ. Здесь важно отметить, что воспринимаясь в статусе вводного эпизода, рассказ Егорова репрезентативен в жанровом отношении, обладает всеми особенностями, свойственными этому жанру.
Егоров рассказывает, как уже перед отправкой на фронт не устоял он от соблазна развлечься и не отказался от нечаянного предложения подошедшей к нему на Петровке «дамочки в вуальке» купить у нее девочку, «каковой никто больше тринадцати годков… с половиной не мог бы дать. Словом, понимэ?» Уходя, дамочка сообщила, что дорогу домой девочка знает и чтоб на провокации с плачем не поддавался: «…Это у нее прием такой». Ход дальнейших событий Егоров излагает в той же развязной манере, которая, по его мнению, именно и импонирует вкусу присутствующих, изощренных, по его представлению, в развлечениях такого сорта. Усадив девочку на диванчик и сунув ей виноградцу, «чтоб жевала», принялся он расстегивать свои ремешки, как тут она, действительно, плакать принялась, к «тете» домой проситься: «Ревет и ножками в дверь колотит, понимэ?» Поняв, что это уже не «прием», а что-то из области естественных человеческих проявлений, надел Егоров свои ремешки обратно и повел девочку за ручку домой, где сдал ее с рук на руки «толстячку с бородкой», оказавшемуся ее отцом, получив от него пятерку вместо отданной дамочке десятки: «Сука-то эта мачехой была и к покойной жене толстячка своего ревновала».
А потом московская история получила неожиданное продолжение в Вологде, где на улице окликнула его молодая особа, «совершенный цветок, прелесть». «Вы, говорит, наверно, забыли меня, а я вас всегда помню… как и где вы меня виноградом угощали». Встреча эта вылилась в близость со старой знакомой, которая, очевидно, в результате войны была уже «вдовой на третьем месяце». Заразившись от «прелести» дурной болезнью, он тут же у папы ее и лечился впоследствии.
Из авторского повествования читатель узнает, что штабс-капитан вовсе не так развратен, циничен и нагл, каким хотел казаться в офицерском кругу. В действительности он любил эту самую Наташеньку и, «изнывая от бестелесной любви», просиживал у нее целыми вечерами. Скорее всего грубой фанфаронской придумкой является и упоминание о дурной болезни. Его рассказ – это игра чужими масками. После своего игрового выступления перед публикой он даже мучится стыдом за «напускное озорство», за предательство любимой женщины. Однако из «жажды угодить приятелям», сделаться в их круге «своим» он готов отказаться от самого себя, своей душевной подлинности и изначальности, пойти на самооговор, самоуничижение, даже комико-вание (известная еще со времен Грибоедова в литературе ситуация: «на куртаге случилось оступиться…»).
Убедившись, что «ироничный поручик» разгадал секрет его игры в чужие роли, ощутив стыд душевной оголенности и то, что вообще такого рода душевные переодевания безбольно не только не проходят, а и для жизни опасны, Егоров приходит в отчаяние и впадает в болезненный ступор: «Не удивлюсь, – говорит Краге Пальчикову, – если и застрелится теперь Егоров» (с. 461).
Разумеется, «случай Егорова», равно как и «случай Титуса», в одинаковой мере вписываются в общий семантико-эстетический концепт Леонова, его антропологическую концепцию, в основных чертах восходящую к Достоевскому. Примечательно, что, размышляя о характере поведения няндорских обывателей и отмечая, с одной стороны, их неподвластность плановым ограничениям, а с другой – их неразборчивую восприимчивость к воздействию разных социальных сил и идей, он произносит фразу, почти дословно совпадающую с антропологическим кредо Достоевского: «Вот она широта души» (с. 468). Однако в текстуально-нарративной глубине повести «Белая ночь» просматривается еще один смысловой канал, через особую когезийную систему создания подтекста подводящий к самым сокровенным мыслям автора о наступившем времени и несущий к оннотации с вечными поисками лучших форм «устройства человеков на земле» (с. 454).
Повесть вышла из печати в конце 1928 г., т. е. создавалась в год, когда страна отметила десятилетие Великого Октября, и политика абсолютизации революции как единственно правильного пути общественного благоустройства приобрела невиданные масштабы. Подвергнуть эту идеологическую догму сомнению не было ни малейших возможностей, и только емкость, многозначность художественного образа позволяла это, разумеется, если речь шла о «настоящем писателе», опиравшемся не на позитивистскую онтологию.
Вопреки большевистскому мифу, обильно питавшему советскую литературу, об исторической неизбежности пролетарской революции, какой-то «высшей» оправданности жестокой борьбы «двух миров», якобы исторически предопределенной обреченности одного из них на «конец»
и неизбежной победе другого, в повествование «Белой ночи» органично вживляется неотступно владеющая автором мысль о ложности, порочности, противочеловеч-ности избранного в России способа ее благоустройства – путем сокрушения вековых устоев, раскола единой нации на представленных, как непримиримые, «красных» и «белых». Ранее уже представлялась возможность отметить важную поэтико-симантическую роль мотива игры в повести «Белая ночь» (см.: [Якимова, 2007а; 2007б])., через воплощение которого писатель актуализирует фигуру усомнения в истинности сделанного страной выбора. Он проявляется здесь в разных видах, формах и ипостасях: и как осознанная игра масками, и как онтологизированная категория, метафизическая и экзистенциальная суть которой героями не осознается, не улавливается.
Особую смысловую нагрузку несет мотив детской игры в казаков-разбойников: «Играли вы в детстве в казаков-разбойников? Есть такая уличная детская игра… Игра эта весьма похожа на высокий тот предмет, о котором речь» (с. 465). Речь же перед этим шла о России, обрушившейся на нее «катавасии» и вообще об «устройстве человеков на земле». Путем многообразных, как выражался В. Шкловский, «сцеплений» [Шкловский, 1961. С. 520] у читателя неотвратимо складывалось ощущение, что развязанная «катавасия» походит на детскую игру той же необязательностью, незакрепленностью, относительностью ролевых функций ее участников, напоминает ее аморфностью, стертостью критериев участия в борьбе «двух миров». Именно в этом идейно-эстетическом контексте особенную значимость приобретают характер и судьба штабс-капитана Егорова. Сын слесаря, дослужившийся до офицерского чина путем преодоления немалых трудностей («двенадцати лет ушел из дома, сам работал, сам и учился…»), он воюет на стороне белых, но от чувства чужеродности в их среде избавиться не может. Это сразу понял «благороднорожденный» Пальчиков, пораженный отсутствием видимой логики в жизненном выборе Егорова: «Вас убьют свои же, верьте слову. Какое же право вы имеете драться против большевиков?»
Являясь составной частью нарративной структуры произведения, в данном случае двух повестей Леонова 20-х гг., вводный эпизод обладает собственной жанровой спецификой и нуждается в жанровой идентификации. Это тем более важно отметить, что, как отмечалось выше, на протяжении творческого пути его жанровая суть не оставалась у Леонова неизменной, и в «последней книге» наряду с реалистическим рассказом о судьбе дьякона Аблаева вводный эпизод представлен апокалиптическими снами и видениями. Что же касается рассказов Титуса и Егорова, то оба они тяготеют к жанру притчи, выводящей частный случай в русло «этических первооснов человеческого существования, к внутренне обязательному и необходимому» [Аверинцев, 1971]. Из общего ряда вводных эпизодов, опознанных как таковые, к числу рассказов с притчевым основанием должен быть отнесен и рассказ «Про немочку Дуню» из романа «Барсуки», что в совокупности может явить пример своего рода трилогии вводного эпизода с притчеобразной структурой текста 2, в полной мере дававшей Леонову возможность предотвратить «вставной фрагмент» в один из эффективных способов художественной связности произведения и подтвердить стратегическую установку на интегрирование и синтезирование художественной мысли.