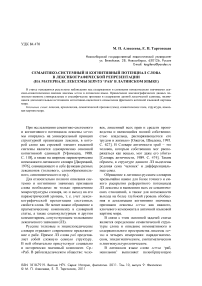Семантико-системный и когнитивный потенциал слова в лексикографической репрезентации (на материале лексемы servus "раб" в латинском языке)
Автор: Алексеева Маргарита Петровна, Таргонская Елена Петровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье освещаются результаты наблюдения над содержанием и сложными концептуально значимыми лексико-семантическими связями лексемы servus в латинском языке. Привлечение лексикографических данных позволило выявить универсальные и специфические признаки в содержании данной лексической единицы, являющиеся дополнительным источником когнитивно-оценочного осмысления фрагмента античной языковой картины мира.
Лексема, архилексема, семантический признак (сема), семантическое поле, структура, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14737619
IDR: 14737619 | УДК: 84.470
Текст научной статьи Семантико-системный и когнитивный потенциал слова в лексикографической репрезентации (на материале лексемы servus "раб" в латинском языке)
Для относительно полного описания системно и когнитивно значимых признаков слова необходимо не только привлечение микроструктуры словаря, но и выход на его параметрический уровень, т. е. учет лексикографической презентации системных свойств слова. Не менее важно обращение к прагматическому компоненту в словарной статье, а также социокультурным и другим комментариям, сопутствующим толкованию лексического значения (ЛЗ).
Русские толковые и энциклопедические словари отражают современное представление о рабе. Прямое ЛЗ слова раб представляет собой сложную семную структуру. В ней обязательно присутствует социально и исторически значимый компонент. Ср.: «Раб. В рабовладельческом обществе: чело- век, лишенный всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца, распоряжающегося его трудом и жизнью» [Ожегов, Шведова, 1995. С. 627]. В Словаре античности «раб – это человек, которым собственник мог распоряжаться как вещью, мог даже его убить» [Словарь античности, 1989. С. 474]. Таким образом, в структуре данного ЛЗ выделены родовая сема ‘человек’ и дифференциальные семы.
Обращение к латинско-русским словарям чрезвычайно важно для более точного и емкого раскрытия референтного потенциала ЛЗ лексемы и выявления всех ее семантических отношений, а также для возможности выхода на более глубокий уровень обобщения и детализации когнитивно значимых признаков лексемы servus как важного, ключевого компонента в античной языковой картине мира.
В связи с этим основной задачей статьи является определение семантической структуры слова и описание номинативного и содержательного пространства лексемы ser-vus в четырех измерениях: парадигматическом, эпидигматическом, синтагматическом и лингвокультурологическом.
В латинском языке слово servus ‘раб, невольник’ выполняет полеобразующую
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © М. П. Алексеева, Е. П. Таргонская, 201 1
функцию и приобретает статус архилексемы, в ЛЗ которой проявляются категориальноядерные семы. Они имеют интегративный характер и служат основой семантических отношений: синонимических, антонимических, гиперо-гипонимических и пр. По Филлмору, семантическое поле (СП) представляет собой «сеть» как вид структурной организации семантической группировки слов, в основе которой лежат несколько признаков, формирующих разные уровни отношений [1983. С. 45–49].
По данным латинско-русских словарей ядро семантико-полевой сети в латинском языке представляют лексемы servus ‘раб, невольник’ и serva ‘рабыня, невольница’, а также их дериваты: servitus ‘рабы, невольники’, servitium ‘рабы, невольники’.
Servus ( serva ) и его дериваты образуют семантические связи. К ним следует отнести синонимы: famulus ‘раб, слуга, прислужник’ и famula ‘рабыня, служанка, прислужница’, которые представлены в словарях без помет. Тем не менее исторические источники дают интересный комментарий к слову famulus : возникшее в эпоху царизма в Древнем Риме это слово номинировало раба (как и любого домочадца), находившегося в полном подчинении у отца семейства (pater familias). Это значит, что в эпоху своего зарождения рабство носило патриархальный характер [Машкин, 1956. С. 94]. Следовательно, famulus не является абсолютным синонимом servus , так как имеет имплицитную дифференциальную сему ‘домашний раб’ (ср. familia ‘дворня, челядь, рабы’).
Многочленный синонимический ряд представлен лексемой-доминантой servitus ( servitium, servitudo ) ‘рабство’: famulatus ( famulitium ) в значении ‘рабство, служение’, captivitas ‘рабство, пленение’, jugum ‘рабство, иго’, которые следует оценить как идеографические синонимы, в ЛЗ которых, кроме ядерной семы, есть семантические признаки, характеризующие рабство с точки зрения его источника (плен), оценки, характера служения.
На основе лексического наполнения ядер-ной зоны семантического поля можно указать на постоянные семантические признаки: раб – человек ( homo ), невольник, подчиненный ( dependens ), лишенный прав ( non civis ), свободы ( non liber ), слуга ( serviens ), трудящийся ( laborans ).
Каждый семантический признак образует лексико-семантическую парадигму, или микрополе, приобретая при этом когнитивную значимость и расширяя границы поля через новые знаки и вербальные образы. Прежде всего это относится к гиперо-гипо-нимическим отношениям как самому распространенному типу этой структурной организации.
Мы проанализировали шесть микрополей, лексические единицы которых объединяются следующими семантическими признаками:
-
1. ‘Содержание труда’ – laborans , ser-viens . Развитость рабства как общественного и экономического феномена Древнего Рима, разветвленность системы рабского труда нашли свое отражение в многоуровневой структурации номинантов. Каждая сфера труда раба была представлена несколькими семантическими признаками с их значительной степенью детализации.
-
2. ‘Источник рабства, невольничества, зависимости’ – proprium , non liber , depen-dens . Источников античного рабства было несколько: разбой, кража свободных граждан, захват в плен во время войн, купля-продажа, добрая воля и раб от рождения. Например, mancipium ‘раб, рабыня’, это слово обозначало и любую собственность, полученную путем купли-продажи. По сви-
детельству историков, рабы в документах на собственность и в завещаниях могли обозначаться как «все остальное» или «и другие домашние принадлежности» [Валлон, 2005. С. 140]. Существовали названия и для людей, которые от рождения были рабами: familiaris и verna ‘раб, рабыня, родившиеся и выросшие в доме хозяина’. Отдельное название было для человека, отданного в рабство за долги: nexus ‘раб (ставший рабом за неуплату долга)’. Обращает на себя внимание отсутствие в латинском языке специального слова-знака для плененного во время войны раба, хотя «войны были одним из постоянных источников рабства» [Машкин, 1956. С. 123]. Тем не менее, этот семантический признак имплицитно выражен в гиперониме servus и актуализирован, во-первых, в словосочетании servus bellis captivus ‘раб, плененный в войнах’, и, во-вторых, в деривате captivitas ‘рабство, пленение’. Интересно, что в древнегреческом языке такой знак был – это слово δμώς ‘пленник, раб’.
-
3. ‘Время, продолжительность нахождения в рабстве’. Этот признак объединяет лексемы: perenni-servus ‘вечный раб’; novi-cius ‘новичок, новый раб’; statu-liber , statuli-bera ‘раб или рабыня, которые по завещанию должны были получить вольную’. Рабы, получившие свободу, имели особое имя: libertus ( libertinus ) ‘отпущенный на волю, вольноотпущенник’. Существительные libertus и libertinus находятся в зоне пересечения полей «рабство» и «свобода».
-
4. ‘Возраст раба’. Номинации и по этому признаку представлены асимметрично: было несколько слов для обозначения молодого раба или рабыни: puer ‘молодой слуга, раб’; vernula ‘молоденький раб или рабыня’, servulus ( servula ) ‘молодой раб (рабыня)’ и только одно для обозначения старого раба – veterator .
-
5. ‘Внутренние и внешние качества, поведение и наклонности рабов’. Несколько слов существовало для обозначения беглых рабов: erifuga , fugitivus , drapeta . В древнегреческом языке для обозначения беглого раба могло употребляться слово Θησειό-τρίψ ‘беглый раб, раб, скрывающийся в храме Тесея’ (скрывающийся в храме беглый раб не мог быть выдан хозяину). Дурной, плохой раб назывался serviculus ‘жалкий раб’. Что же касается положительной оценки, то она чаще отражается в семантике существительных женского рода, например:
-
6. ‘Внешний вид раба’ ( habitus ). Среди номинаций, в которых актуализировались признаки-атрибуты рабов, следует назвать: colli-crepida ‘раб с железной цепью на шее, досл. с бренчащей шеей’, ср. в древнегреческом στιγματίας ‘клейменый раб’. В эту микрогруппу можно отнести устойчивые сочетания, например: cretatis ( albis ) pedibus advenire ‘прийти как раб, досл. прийти с белыми ногами’ (во время процедуры продажи рабов рабы выводились на продажу голые и с выбеленными ногами); sub corona vendere ‘продать (пленных) в рабство, досл. под короной продать’; sub corona venire ‘быть проданным в рабство, досл. под короной идти’ (при продаже в рабство пленных на их голову надевался венок).
Такой признак имел особое значение в тех сферах деятельности, где применялся только рабский труд: в обслуживании дома, сфере городской жизни и сельском хозяйстве. Номинации сферы сельского хозяйства мы не анализируем, поскольку они уже были подробно проанализированы в литературе (см., например: [Кузищин, 1990. С. 182– 190]).
Так, в латинском языке имелись многочисленные номинации рабов, обслуживающих дом и членов семьи: adversitor ‘адвер-ситор, раб, обязанностью которого было встречать возвращавшегося домой господина’; nomenclator ‘номенклатор, раб, в обязанности которого входило знать и называть своему господину имена граждан города и всех рабов в доме, а также провозглашать названия подаваемых кушаний’; structor ‘устроитель пиршества, раб, накрывающий на стол’; analecta ‘собиратель крох, объедков, раб, убиравший остатки пира’, capsa-rius ‘раб, несший за детьми господина их школьные принадлежности’, mediast(r)inus ‘раб, исполнявший черную работу, слуга по дому’ и silentiarius ‘силенциарий, раб, в обязанности которого входило обеспечить соблюдение всей домашней прислугой полной тишины’.
В этом микрополе ярко проявились гендерные различия. Были отдельные слова для обозначения рабынь: ancilla ‘служанка, прислужница, рабыня’; cistellatrix ‘рабыня-хра- нительница ларчика’; ornatrix ‘рабыня, занятая туалетом своей госпожи’ и vestiplica ‘служанка, следящая за платьем, горничная’, а также psecas ‘псекада, рабыня, кропившая благовониями волосы своей госпожи’, т. е. парикмахерша; pedisequa ‘служанка, следовавшая за своей госпожой’, и sandaligerula ‘служанка, носившая за своей госпожой, при выходе ее из дому, сандалии’.
В сфере городской жизни были особые названия для рабов, обслуживающих римлян: alipilus ‘алипил, эпилятор, раб, на обязанности которого лежало удалять растительность на теле посетителей бань’; alipta ‘алипт, раб, занимавшийся умащиванием посетителей бань’; progymnastes ‘прогимнаст, раб, несший обязанности гимнастического инструктора’; cursor ‘раб-бегун’. Отдельную группу составляют названия гладиаторов с их многообразными функциями: само слово gladiator , его синонимы ludius и arenarius , а также гипонимы-номинанты гладиатора: hoplomachus ‘гладиатор в полном вооружении’; parma ‘гладиатор, вооруженный щитом’; mirmillo ‘мирмиллон, гладиатор в галльском вооружении с изображением рыбки на острие шлема’; Thraex ‘гладиатор во фракийском вооружении’; andabata ‘андабат, гладиатор, сражавшийся в глухом шлеме, т. е. без глазных отверстий’. Особое название имели retiarius ‘ретиарий, вооружение которого состояло из fuscina (трезубца) и rete (сети)’, и его противник secutor ‘преследователь, вооруженный щитом и мечом, гладиатор, специально обученный для борьбы с ретиа-рием’. Гладиатор, сражавшийся с колесницы, назывался essedarius . Гладиаторы, сражавшиеся в честь умершего на месте его сожжения, назывались gladiatores bustuarii. Специальные наименования имели: гладиатор, приемы которого заключались исключительно в ловкости и быстроте приемов – provocator , и терциарий, запасной гладиатор, становящийся на место выбывшего – tertiarius .
favea ‘любимица, фаворитка, любимая служанка’.
Отпущение на волю тоже имело свой овеществленный знак: pileus ‘войлочная круглая шапка’, или колпак-пилеус. Рабы могли надевать его только при даровании им воли. Pileatus – ‘носящий головной убор pileus ’, отсюда выражения pileum redimere ‘получить свободу, досл. повязать пилеус’; servos ad pileum vocare ‘призывать рабов к восстанию, обещая им свободу, досл. призывать к пилеусу’. Изображение колпака на надгробии свидетельствует о погребении бывшего раба. Даже после смерти он не был равным свободному гражданину. В латинском языке особые номинации имели и могилы рабов и рабынь: puticuli и puticulae .
Словарь показывает высокий эпидигма-тический потенциал лексем servus и famulus и их синонимов, который проявляется в семантической деривации и в большом объеме словообразовательных гнезд. Так, к случаям расширения значений внутри семантической структуры слова следует отнести когнитивно-денотативные метафоры: servus cupiditatum – ‘раб страстей’, verna – ‘раб’ и ‘природный римлянин’; когнитивно-оценочной метафоры: analecta ‘собиратель крох, объедков, раб, убиравший остатки пира’ и ‘крохобор’, gladiator ‘цирковой боец’ и ‘головорез, душегуб’, veterator ‘старый раб’ и ‘пройдоха, хитр ая бестия’, familiaris ‘раб’ и ‘приятель’ и др. Как правило, негативно-оценочная семантика преобладает над позитивной характеристикой. Нередки случаи формирования переносных метонимических значений: gladiatores ‘гладиаторы’ и ‘гладиаторские бои’ и др.
Наиболее ярко эпидигматические связи лексем представлены в лексико-словообразовательных гнездах. Так, у слов servus и famulus мы насчитали по 14 дериватов разных частей речи. Следует отметить, что ядерный семантический компонент ‘раб’ всегда присутствует в семной структуре производного слова. Нередко словарь репрезентирует в деривате новые «точки» содержательного пространства servus и famulus , указывающие на появление специфических когнитивно значимых признаков: ‘раболепие’ в servire и servitium , ‘отягощен-ность повинностями, сервитут’ в servitus , ‘рабская преданность’ в famulabundus и ‘покорность’ в famulus , a , um.
Синтагматические связи архилексемы servus и ее синонимов объективируются в устойчивых сочетаниях и паремиях. Многие устойчивые сочетания выполняют номинативную функцию, характеризуя те или иные стороны жизни раба, его социальное положение, предметный мир, отношение общества к рабу и рабству и т. д. Вербализацию получили такие понятия, как «раб по закону» – jura famularia dare ‘узаконить рабов’; «раб императора» – servus Augusti nostri ‘раб нашего государя’; «раб раба» – velle ( nolle ) vicarius esse ‘хотеть (не хотеть) быть рабом раба’; «раб, наделенный собственностью (землей)» – servus casatus ‘раб, посаженный на землю’ (такие рабы не вносились в инвентарь имений и не завещались); «войско из рабов» – manus servilis ; «питьевая вода для рабов» – aqua serva и пр.
Некоторые устойчивые сочетания не содержат ключевого слова, однако их метафорические значения являются яркими характеристиками феномена «раб». Например: instrumentum vocale – ‘орудие, умеющее говорить, т. е. раб’ [Словарь античности, 1989. С. 474].
Особый интерес вызывает оценка рабов (рабства) античным обществом, эксплицированная в паремиях: Potior visa est periculo-sa libertas quieto servitio – Лучше свобода, исполненная опасности, чем спокойное рабство; Miserrima servitus – Самое жалкое рабство; Quot servi totidem hostes – Сколько рабов, столько врагов; и пр.
Таким образом, сочетаемостный потенциал servus и его дериватов расширяет их когнитивно-культурологическую зону, в которой актуализируются периферийные признаки семантического поля: римский раб мог быть собственностью и собственником (раб раба), мог быть отпущен на волю, мог быть воином и т. д. Примеры показывают, что словарь как тезаурус и как гипертекст может манифестировать подвижные границы в содержательном пространстве лексемы.
В результате анализа семантико-системных связей лексемы servus она предстает как объемное антропонимическое пространство, как сложная микромодель античной языковой картины мира, в которой лексема servus актуализирует свои ядерные признаки в семной и семантической структуре, участвуя в формировании семантических разрядов слов по предметным сферам: живой мир – люди – вещи. Сама лексема servus в античной языковой картине мира находится на пересечении данных сфер.
Лексикографическое описание СП «раб» репрезентировало его как сложную по содержанию сеть отношений: с одной стороны, это типизированные парадигмы, а с другой – специфические и многообразные в количественном отношении микрополя, формирующиеся на базе ядерных и периферийных сем и значительно расширяющие номинативные и содержательные границы СП «раб».
Смена общественно- и культурно-исторической ситуации влечет за собой изменение состава семантических признаков и их перераспределение в семной структуре значения лексемы.
Выявление периферийных семантических компонентов в пределах поля, «подведенных под один знак» (в нашем случае лексема servus), предопределяет «бытие знака как известной когнитивной структуры» [Кубрякова, 1997. С. 88]. Бесспорно, способы лексикографического описания семантико-системного и когнитивного потенциала лексемы servus не могут раскрыть полностью когнитивную природу слова; для этого необходимы другие, и прежде всего текстовые приемы анализа. Тем не менее материалы словарных статей (развернутые дефиниции, метаязыковый, культурный, исторический и другие комментарии) можно считать репрезентантами лингво-когнитивного анализа на его первом этапе, что дает возможность реконструировать фрагмент античной языковой картины мира с ее историко-ценностными ориентирами.
SEMANTIC-SYSTEM AND COGNITIVЕ POTENTIAL OF A WORD IN LEXICOGRAPHIC REPRESENTATION (ON THE MATERIAL OF THE LEXEME SERVUS ‘SLAVE’) IN LATIN LANGUAGE)