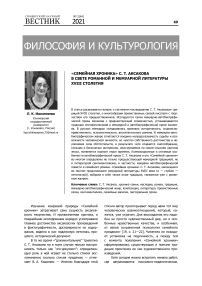«Семейная хроника» С. Т. Аксакова в свете романной и мемуарной литературы XVIII столетия
Автор: Л.К. Ишкиняева
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (44), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается вопрос о системном наследовании С. Т. Аксаковым традиций XVIII столетия, о многообразии преемственных связей писателя с творчеством его предшественников. Исследуются связи мемуарно-автобиографической прозы Аксакова с предшествующей словесностью, устанавливаются традиции сентиментализма в мемуарной и автобиографической прозе Аксакова. В русских мемуарах складывались признаки исторического, социально- нравственного, психологического, воспитательного романа. В мемуарно-автобиографическом жанре сплетаются воедино непредсказуемость судьбы и возможности человеческой личности, ее чувство собственного достоинства и неумолимая сила обстоятельств, в результате чего создается многообразная, сложная и бесконечно интересная, неисчерпаемая по своим смыслам картина эпохи, появляется портрет героя времени. Композиционные и стилевые особенности автобиографической прозы С. Т. Аксакова и его «Семейной хроники» во многом определены не только предшествующей мемуарной традицией, но и литературой сентиментализма, в частности, жанрами автобиографической повести и семейного романа. «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, являющаяся во многом продолжением мемуарной литературы XVIII века (и — глубже — летописной), вобрала в себя также иные традиции, связанные уже с романным жанром.
С. Т. Аксаков, хроника семьи, наследие, роман, традиция, мемуарно-автобиографический жанр, композиция, литература, преемственные связи, сентиментализм, семейные записки, пасторальная проза
Короткий адрес: https://sciup.org/14123773
IDR: 14123773
Текст научной статьи «Семейная хроника» С. Т. Аксакова в свете романной и мемуарной литературы XVIII столетия
Изучение жанровой природы «Семейной хроники» затрагивает саму сущность аксаковского творчества. И прижизненная критика, и позднейшие исследования нередко усматривали главное достоинство аксаковских произведений в фактографичности, достоверности их содержания, видели в них подлинную летопись прошлого, исторический документ.
В то же время «”документальную” трилогию С. Т. Аксакова ни в коем случае нельзя воспринимать только как “эго-документ”: определяющую роль в ней играет не столько стихия воспоминания, сколько стихия предания, — отмечает В. А. Кошелев. — Именно благодаря этой стихии автор приоткрывает перед нами тот мир человеческих взаимоотношений, который, кажется, уже утрачен. Для воссоздания его надобен не просто художественный дар, но и особенные нравственные качества, и особенная, от веков сохраненная психология семейного предания» [19, с. 21—22]. Читателя не покидает установка на подлинность, а между тем с момента появления «Семейной хроники» сформировалась существующая и поныне традиция прочтения ее как художественного произведения.
Хотя сегодня можно встретить немало работ, где затрагиваются психолого-педагогические, лингвистические, этнографические, культурологические и т. п. аспекты творчества С. Т. Аксакова, в литературоведении на первый план выходит художественная природа его сочинений.
Основываясь на этом, необходимо уяснить, с какой именно литературной, жанрово-стилевой традицией связаны «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука».
Добролюбов Н. А. ценил книги Аксакова как «простодушно правдивые воспоминания», а не как художественные творения, укоряя при этом писателя в недостатке объективности, в идеализации прошлого, в подчеркивании патриархальной стороны отношений, в архаических симпатиях и т. п. «…Талант г. Аксакова слишком субъективен для метких общественных характеристик, — писал Добролюбов, — слишком полон лиризма для спокойной оценки людей и произведений, слишком наивен для острой и глубокой наблюдательности» [10, с. 452—453].
Добролюбовская оценка во многом обусловлена тем, что он рассматривает сочинения Аксакова в контексте русской сатирической литературы XVIII века, в соотнесенности не с «Детским чтением для сердца и разума», а с сатирическими журналами Н. И. Новикова, с документальной прозой [28, с. 63], тогда как «Семейная хроника» Аксакова тяготеет к эпическим жанрам.
Современные работы об Аксакове указывают на его связь с библейской, мифологической, древнерусской традицией. Н. Г. Николаева рассматривает «Семейную хронику» в контексте семейных записок XVIII—XIX веков. П. М. Тама-ев пишет о стиле древнерусских памятников «Поучения» Владимира Мономаха и «Домостроя» в «Семейной хронике» [27, с. 61—71], отмечая при этом, что в памятниках древнерусской литературы («Поучение Владимира Мономаха») авторы обозначают судьбинный момент своего возраста, побудивший их взяться за перо. Жизненная ситуация рождает отцовское, духовное, княжеское слово, которое заключает в себе чувство печалования и заботы об остающихся без главы Дома. Слово в подобных повествованиях обращено к детям, ко всем подданным, современникам и потомкам. Произведение Владимира Мономаха исторично и, что самое главное, автобиографично. Автобиографизм поучения Мономаха состоит не только в словесных назиданиях, но и в воссоздании картин собственной жизни, поступков, деяний. Проза С. Т. Аксакова также автобиографична, адресована потомкам, в этом смысле ее можно уподобить произведениям древнерусского искусства.
Наибольший интерес в избранном аспекте представляет литературная традиция XVIII столетия. Именно в это время в России создаются предпосылки для утверждения мемуарно-биографических жанров, получивших общее название «записок». От десятилетия к десятилетию все глубже постигается взаимосвязь человека и истории, подготавливается появление русского реалистического романа XIX столетия — вершинного достижения мировой литературы.
Идеалы эпохи, отразившиеся в поэтике классицизма, «внимание к логике душевных движений, идея “личного благородства” обращали взгляд человека на самого себя» [23, с. 241]. В записках людей XVIII столетия просматривается нарастающее стремление осознать собственную индивидуальность, проследить ее становление, понять и исполнить свое общественное назначение, желание высказать свою оценку тех или иных событий, процессов, явлений, запечатленных в памяти. Князь Вяземский писал, что он «большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы… за несколько томов записок, за несколько несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история» [7, с. 418].
Записки людей середины XVIII столетия поражают смешением событий разных масштабов и уровней — в жизни человека и государства. Так, в «Записках» В. А. Нащокина читаем: «1741. В том же году Июля 30, на первом часу дня родилась вторая у меня дочь Елисавет...
Того же году Августа 15 дня объявлена против Швеции война».
Или: «В начале 1743 года Государыня изволила быть в Петербурге.
В том же году Июня 18 дня во 2 часу дня родился у меня второй сын Петр…» и т. д. [17, с. 345].
«Записки» Я. П. Шаховского показывают состояние человека, на индивидуальную судьбу которого резко влияли быстротечные перемены в столице, «чехарда на троне».
Жизнь И. И. Неплюева, им самим описанная, уже отличается глубоким пониманием взаимосвязи человека и эпохи. Будучи воистину героем своего (петровского) времени, он понимал свою принадлежность именно к этому периоду российской истории. Когда Екатерина II не соглашалась уволить его от службы, прежде чем он не представит ей вместо самого себя другого с такими же достоинствами, Неплюев отвечал ей: «Нет, Осударыня (так! — Л. И.), мы Петра Великого ученики; проведены им сквозь огонь и воду; инако воспитывались, инако мыслили и вели се- бя, а ныне инако воспитываются, инако ведут себя и инако мыслят; я не могу ни за кого, ниже за сына моего ручаться» [18, с. 87].
Сквозной темой целого ряда произведений мемуарно-биографического жанра становится просвещение и воспитание дворянства. Актуализирующаяся при этом проблема учителя приобретает порой гротесковые формы, демонстрируя иллюзорность надежд на преобразование общества, на формирование молодого поколения в духе просветительских идеалов.
Состояние домашнего образования и специальных учебных заведений после петровских реформ, нравы мелкого и среднего дворянства и купечества передает М. В. Данилов. Он обрисовывает довольно типичную ситуацию, сложившуюся во время его обучения в артиллерийской школе, где преподавателем математики был назначен некто Алабушев, содержащийся тогда «в смертном убийстве третий раз под арестом». «Видно, — замечает мемуарист, — что тогда был великий недостаток ученых людей в артиллерии, когда принуждены были взять и определить в школу учителем колодника и смертоубийцу» [13, с. 342].
Подобно этому, об учителе немецкого языка — сосланном в каторгу дворянине — рассказывает Г. Р. Державин, а о старой француженке-гувернантке, любительнице русской водки, сообщает в своих «Воспоминаниях» С. В. Кап-нист-Скалон.
Проблеме воспитания в 60—70-е годы XVIII века придавалось принципиальное значение. Новое поколение должно было быть подготовлено к более совершенной жизни, но оставшиеся свидетельства разительно контрастируют с утопическими замыслами русских просветителей, внося существенные коррективы в их концепцию мира и человека.
Свойственное русским мемуаристам желание нравственной пользы привело Д. И. Фонвизина в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» к принципиальному отказу от сатиры и актуализировало жанры проповеди и поучения. Заявленное как исповедь (в христианском понимании), произведение приобрело черты дидактических, учительных жанров, а сама эволюция писателя от сатирика к проповеднику, а также соединение исповеди и проповеди, поучение самораскрытием предсказали во многом направление духовных (и жанровых) поисков художников XIX столетия, прежде всего Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого.
Особая заслуга принадлежит известному мемуаристу А. Т. Болотову, который, обратив- шись к эпохе своего детства, нарисовал широкую картину жизни русского провинциального дворянства XVIII века, «передал неповторимую атмосферу родительского дома, раскрыл индивидуальность своего “я” в раннем возрасте» [29, с. 10—11].
Если для первых русских мемуаристов конца XVII — начала XVIII века (А. А. Матвеев, И. А. Желябужский) главными были те события, свидетелями которых они оказывались, а не воспроизведение собственного жизненного пути (своеобразное продолжение русской летописной традиции), то у Д. Б. Мертваго, создававшего свои «Записки» в первой четверти XIX века, стержнем воспоминаний становится его собственная жизнь, его судьба, его личность, складывающаяся в непосредственном взаимодействии с историческими обстоятельствами и с идеалами эпохи [25, с. 1—18].
Первая глава «Записок» («Пугачевщина») появилась в «Русском вестнике» в 1857 году («Семейная хроника» вышла в 1856-м). Хранитель рукописи В. П. Безобразов обратился к С. Т. Аксакову с просьбой сообщить все то, что было лично известно ему о своем крестном отце, которого Аксаков называл «одним из достойнейших людей прошедшего времени» [6].
В духе XVIII столетия «Записки» Д. Б. Мерт-ваго проникнуты идеалом добродетели, чистой совести и гражданственного служения отечеству. Важнейшим фактором формирования личности мемуариста стали здесь исторические потрясения последней трети минувшего века. Публикатор «Записок» П. И. Бартенев писал: «…характер Д. Б. Мертваго, без сомнения, образовался под влиянием тех ужасов, которые суждено было ему испытать 11 лет от роду. Но в то же время честь веку, когда могли действовать такие непоколебимые, ничем не подкупные люди <…>. Записки написаны по дружескому совету Г. Р. Державина: сходство в характерах и в направлении обоих этих людей очевидно» [14, с. 335—336].
Русская мемуаристика XVIII — первой четверти XIX века насыщена крупными историческими событиями, чего нельзя сказать о воспоминаниях С. Т. Аксакова. Так, например, в 1807 году, когда уже шла решительная война с Наполеоном, по всей России впервые учредилась милиция; студенты и вообще молодежь оставляли университет и поступали в действующую армию, в том числе друг Аксакова Александр Панаев и его старший брат Иван Панаев. «Краснея, признаюсь, что мне тогда и в голову не приходило “лететь с мечом на поле брани..."», — сообщает мемуарист [1, с. 161]. Но раскаяния в этом писатель не испытывает: с восторгом и упоением отправляется он в деревню, где ждали его «весна, охота, природа…», впервые увиденный и почувствованный им прилет птицы, который затмил совершенно на ту пору для Аксакова и «войну с Наполеоном, и университет с товарищами» [1, с. 163].
И в дальнейшем писатель не изменил себе. Е. И. Анненкова, со ссылкой на архивные материалы, цитирует письмо С. Т. Аксакова от 27 февраля 1848 года, вызванное революционными событиями во Франции: «Время у нас по-прежнему совершенно летнее… с каждым днем больше хочется в деревню, тем более что политические новости мне надоели и потеряли для меня свой окончательный интерес», и от 21 апреля того же года: «…Я уже совершенно оторвался от жизни московской и от всех ее важных и неважных, даже от любимых мною. Я весь перенесся теперь в совершенно другую сферу: в деревню, к природе, к ее возрождающей красоте! Мне в такой степени все другое сделалось чуждо и постыло, что иногда мне бывает стыдно моего равнодушия...» [2, с. 9—10].
«Семейная хроника» в большей мере связана с семейными записками (записки А. Т. Болотова, И. М. Долгорукова, М. В. Данилова, И. И. Дмитриева и др.). «Главное в семейных записках — это изображение истории семьи, охватывающей несколько поколений (а не только судьбу самого повествователя) и показанной в аспекте частной, внутрисемейной, домашней жизни» [21, с. 64—82]. Причем «автор старается вписать свой текст в существующую жанровую систему. “Записки” А. Т. Болотова названы “Жизнь и приключения А. Т. Болотова, писанные самим им для своих потомков”, и И. М. Долгорукова — “Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни”» [21, с. 64—82].
Уже первые читатели «Семейной хроники» почувствовали и отметили не столько документальную, сколько художественно-обобщенную природу аксаковского творения. «В “Семейной хронике” С. Т. Аксаков оказывается по большей части совсем не летописцем, а полным и совершенным творцом типов и характеров, как любой повествователь или романист», — писал П. В. Анненков, подчеркивая, что аксаковские образы созданы «по законам художественности и свободного творчества» [3, с. 1], и считая «Семейную хронику» «чисто литературным произведением» [3, с. 2].
Единство исторического материала и его художественной обработки, знания природы и художнического ее описания отмечал критик С. С. Дудышкин [11, с. 72]. «В Хронике материал был представлен не только с исторической верностью, но и в форме, способной удовлетворить художественным требованиям читателя», — писал рецензент А. В. Станкевич [26, с. 339].
Историк русского права Ф. М. Дмитриев в своих отзывах о сочинениях Аксакова отмечал психологизм писателя («способность проникать в самые скрытые изгибы человеческого сердца» [9, с. 465, 467]) и лиризм его природоопи-саний.
Аксаков называет свое повествование хроникой, но «не стремится, однако, придать повествованию идеальную последовательность и завершенность» [2, с. 28]. Его задача иная — передать эпизоды, характеризующиеся максимальным чувством полноты бытия.
«Многочисленные вставные рассказы о бывших ранее событиях, отсылки к будущим, эллипсы, обнаруживаемые в повествовательной структуре “Семейной хроники”, позволяют утверждать, что повествователь все-таки не просто следует за ходом событий, он “сворачивает” одни сюжеты, иные, наоборот — развивает, он выделяет одни эпизоды, сопоставляет их с иными из прошлого и будущего, пропускает ряд событий, тем самым выстраивая некий сюжет “Семейной хроники”, и в этом смысле название “хроника” оказывается формальностью» [21].
«Семейная хроника» С. Т. Аксакова, являющаяся во многом продолжением мемуарной литературы XVIII века (и — глубже — летописной), вобрала в себя также иные традиции, связанные уже с романным жанром. Н. Г. Николаева, рассматривающая «Семейную хронику» в контексте традиции мемуарных семейных записок XVIII—XIX вв., отмечает, что здесь «происходит трансформация нарративной структуры в сторону ее большей организованности, что позволяет говорить о процессе романизации документального жанра в “Семейной хронике” С. Т. Аксакова» [21].
Как отмечает А. А. Чуркин, к середине XIX века сформировалось множество разновидностей романного жанра, «каждая из которых имела свою тематику, стилистику, топику. Романы бытовой, авантюрный, эпистолярный, воспитания и многие другие имели сложившиеся наборы сюжетов, архетипов и мотивов. Все это создавало огромное романное поле контекстуальной традиции» [30, с. 114].
Встает вопрос: с какой именно разновидностью романного жанра связаны «Семейная хроника» и «Детские годы…»?
Исследователь русской мемуаристики Т. Н. Жуковская пишет: «Традиции сентиментализма, рамки сентиментального романа оказали огромное влияние на представителей документальной литературы. Сентименталисты впервые поставили в центр повествования внутреннего человека, показав его как человека чувствующего, канонизировав чувствительность, выявив оттенки переживаний» [12, с. 19]. Видимо, неслучайно изображение семейной жизни Аксаковым вызвало у Ю. Айхенвальда ассоциации с «Германом и Доротеей» Гете [4, с. 255].
«”Главный, центральный смысл хроники Аксакова, — писал Андрей Платонов, — указывается в ее названии, в том, что она — семейная". Семья становится школой понимания таких сложнейших явлений, как жизнь и смерть. Мальчик боится своей мнимой смерти — мать боится за сына — и этим скрепляется естественное человеческое сочувствие — со-чувствие : совместное переживание бытия» [19, с. 22].
Думается, «Семейная хроника», как и «Детские годы…» С. Т. Аксакова, имеет прочную связь с литературой сентиментализма («жизнь, быт, простые обычные люди, их повседневные интересы, их горе и счастье — вот куда привели искусство с высот отвлеченной мысли сентименталисты» [8, с. 395]). В контексте культурноисторических универсалий философия и эстетика сентиментализма занимают свое место. Как пишет М. В. Иванов, «в русской культуре сентиментализм художественно оформил бытие малой группы» [16, с. 73]. Если большая группа требует от человека исполнения той или иной конвенциональной социальной роли, то у малой группы (семья, деревня) иная функция. «В малой группе личность исполняет прежде всего межличностные социальные роли», в ней «значительно важнее учитывать именно индивидуальные особенности ее членов. Поэтому личные привычки, симпатии или антипатии, особенности характера и поведения часто играют более существенную роль, чем абстрактные требования этикета. Но зато и процесс взросления, создания дружеских и брачных пар, воспитание детей проходит более гибко, с учетом большего количества факторов индивидуальной ситуации» [16, с. 75].
Мемуаристика, как и всякая литература, создается в эстетических формах, соответствующих эпохе.
Аксаков рассказывает о предыстории брака своих родителей, о просвещенности, образованности своей матери и некоторой умственной неразвитости отца в контексте просветитель- ских идей века Разума, вдохновивших молодую девушку: «Ей представилась пленительная картина постепенного пробуждения и воспитания дикаря, у которого не было недостатка ни в уме, ни в чувствах, погруженных в непробудный сон, который будет еще более любить ее, если это возможно, в благодарность за свое образование». Она надеялась, что «чтение хороших книг, общество умных людей, беспрестанные разговоры с нею вознаградят недостаток воспитания…» [1, с. 167]. Между тем, хотя и не слишком начитанный, будущий отец писателя обращается к несогласным на этот брак родителям в совершенно книжных выражениях: «…Не могу преступить воли вашей и покоряюсь ей; но не могу долго влачить бремя моей жизни без обожаемой мною Софьи Николаевны, а потому в непродолжительном времени смертоносная пуля скоро просверлит голову несчастного вашего сына» [1, с. 157—158]. К сему Аксаков делает примечание: «Очевидно, что некоторые выражения письма заимствованы из тогдашних романов, до которых Алексей Степаныч был охотник» [1, с. 158]. В подобных романах дети не имеют права противиться воле родителей, влюбленные должны быть преданны, верны и целомудренны, «родители должны помнить о законах сердца и “природы”, жены и мужья жить в согласии» [15, с. 117].
Герои Аксакова, их «эмоционально-психологический портрет» [24, с. 10], воссозданы им в соотнесенности с литературной культурой конца XVIII столетия, с учетом присущих ей жанрово-стилевых тенденций и «мифотворческих парадигм» [5, с. 11], в том числе идиллического и сентиментального характера, которые становятся объектом авторского изображения.
Разумеется, Аксаков не был изолирован от современного ему литературного процесса. Он показал в «Семейной хронике» острые социальные конфликты, затронув тему крестьянства и «русского помещика», создав свои варианты этого типа. На одре болезни, несмотря на мучительный недуг, он «с живым участием и любовью приветствовал начало крестьянского освобождения». Но и здесь он оказался связан с литературой XVIII столетия. Так, в «Обитателе предместья» М. Н. Муравьева автор противопоставляет двух помещиков, увиденных им в течение одной недели, и тем самым создает уже определенную типологию: в записи от 27 сентября 1790 года рассказывается о графе Благо-творове. «Я счастлив тем, что могу облегчать судьбу мне подобных» [20, с. 89], — объявляет свое жизненное кредо граф. В записи от 4 ок- тября обитатель предместья показывает другую деревню, представившуюся его глазам: «Поля пренебреженныя, хижины земледельческие развалившиеся, вросшие в землю, соломою крытыя!» [20, с. 91]. И далее о владельце сей деревни: «Несчастие крестьян его не трогало. Он думал, что они рождены для его презрения…» [20, с. 92].
У Аксакова находим продолжение этой типологии: Алексей Степаныч Багров и Михайла Максимыч Куролесов.
При этом в глубинной структуре «Семейной хроники» присутствует и идиллическое начало — в поэтическом и нравственно обостренном чувстве природы. «...За неуклонными переменами-потерями, за недопустимыми общественными формами Аксаков постоянно находит глубинные ресурсы самой жизни, способные если не возместить утраты исторического развития, то противостоять им. Один из самых надежных — включенность человека в природный нескончаемый цикл» [2, с. 27].
Исследование и художественная типизация явлений действительности у Аксакова были увенчаны возвышенным стремлением к утверждению нравственной истины, к поискам согласия между людьми, к ясному пониманию места человека в мироздании, к выражению идеи добра и взаимопонимания. Не последнюю роль в этом сыграли религиозно-философские и есте ственно-научные труды писателей и ученых XVIII столетия.
Если семейная тема разрабатывалась преимущественно в жанре романа, если ход собственно исторических событий воссоздавался в жанре хроники, если мемуаристика XVIII века механически соединяла семью и историю, то в «Записках» Д. Б. Мертваго герой-мемуарист вписан в историю, а у Пушкина в «Капитанской дочке» семья и история представляют собой нераздельное единство.
У Аксакова, вслед за пушкинским пониманием истории как семейного предания, историей становится хроника семьи. При этом художественной задачей писателя было «не только воссоздание образа жизни большой патриархальной дворянской семьи, ее быта, ее устоев, но и образа мышления человека своей эпохи» [22, с. 48].
Таким образом, жанровая природа мемуарной прозы Аксакова, органично связанная с «записками» русских людей XVIII века и являющаяся продолжением этой традиции, в то же время вбирает в себя жанрово-сюжетные особенности сентиментального семейного романа, а также записок из «натуральной истории» с их стремлением, с одной стороны, к систематизации, а с другой — к передаче неповторимого своеобразия всей окружающей действительности.
Список литературы «Семейная хроника» С. Т. Аксакова в свете романной и мемуарной литературы XVIII столетия
- Аксаков С. Т. Полное собрание сочинений : в 6 т. / С. Т. Аксаков. — СПб. : Н. Г. Мартынов, 1886.
- Анненкова Е. И. Творческий путь Сергея Тимофеевича Аксакова / Е. И. Анненкова // Аксаков С. Т. Собрание сочинений : в 3 т. / С. Т. Аксаков. — М. : Худож. лит., 1986. — С. 5—31.
- Анненков П. В. «Семейная хроника» и «Воспоминания» С. Аксакова / П. В. Анненков // Современник. — М., 1856. — № 3.
- Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. 1 / Ю. И. Айхенвальд. — М. : Научное слово, 1908.
- Вершинина Н. Л. Жанровая и стилевая структура русской беллетристики 1830—1840-х годов : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Н. Л. Вершинина. — Псков, 1997.
- Воспоминания С. Т. Аксакова о Д. Б. Мертваго (письмо к В. П. Безобразову) // Записки Д. Б. Мертваго. 1760—1824. Изд-е Русского Архива. — М., 1867. — Стлб. Х.
- Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика / П. А. Вяземский. — М. : Искусство, 1984.
- Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века / Г. А. Гуковский. — М. : Аспект Пресс, 1998.
- Дмитриев Ф. М. «Семейная хроника» и «Воспоминания» / Ф. М. Дмитриев // Русский вестник. — 1856. — Т. 2.
- Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений : в 6 т. Т. 2 / Н. А. Добролюбов. — Л. : Гослитиздат, 1935.
- Дудышкин С. С. «Семейная хроника» и «Воспоминания» С. Аксакова / С. С. Дудышкин // Отечественные записки. — 1856. — T. CX, № 4. — Отд. 2.
- Жуковская Т. Н. Русская мемуаристика первой трети XVIII века : учебное пособие по спецкурсу / Т. Н. Жуковская. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2006.
- Записки М. В. Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году // Жажда познания. — М. : Молодая гвардия, 1986.
- Записки Д. Б. Мертваго. 1760—1824. Изд-е Русского Архива. — М., 1867.
- Иванов М. В. Поэтика русской сентиментальной прозы / М. В. Иванов // Русская литература. — 1975. — № 1.
- Иванов М. В. Судьба русского сентиментализма / М. В. Иванов. — СПб. : ФКИЦ «Эйдос», 1996. — 336 с.
- Из «Записок» В. А. Нащокина // Вслед подвигам Петровым. — М. : Молодая гвардия, 1988.
- Историческая христоматия новаго периода русской словесности (от Петра и до нашего времени) / составлена А. Галаховым. Т. 1. — СПб. : В типографии Штаба Военно-учебного заведения, 1861.
- Кошелев В. А. Аксаковы: мифология рода / В. А. Кошелев // Вторые Аксаковские чтения : сборник материалов Всероссийской научной конференции (21—24 сентября 2006 г.). — Ульяновск : УлГУ, 2006.
- Муравьев М. Н. Полное собрание сочинений. Ч. 1 / М. Н. Муравьев. — СПб. : В типографии Российской академии, 1819.
- Николаева Н. Г. Трансформация жанра семейных записок XVIII—XIX вв. в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова / Н. Г. Николаева // Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 6. — Новосибирск, 2004.
- Рассадин А. П. Почему Багров-внук, а не Багров-сын / А. П. Рассадин // Вторые Аксаковские чтения : сборник материалов Всероссийской научной конференции (21—24 сентября 2006 г.). — Ульяновск : УлГУ, 2006.
- Русский и западноевропейский классицизм : проза / [А. С. Курилов, А. А. Смирнов, Л. И. Сазонова и др. ; редкол.: А. С. Курилов (отв. ред.) и др.]. — М. : Наука, 1982.
- Рыкова Е. К. Пути развития русской литературы в Екатерининскую эпоху: «свое» и «чужое» в литературе и на книжном рынке / Е. К. Рыкова. — Ульяновск : УлГТУ, 2008.
- Сапченко Л. А. Человек эпохи в «Записках» Д. Б. Мертваго / Л. А. Сапченко // Литературное краеведение Поволжья : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1. — Саратов : Изд-во Саратовского пед. ин-та, 1997.
- Станкевич А. В. Детские годы Багрова-внука / А. В. Станкевич // Атеней. — 1858. — Ч. 2, № 14.
- Тамаев П. М. «Семейная хроника» С. Т. Аксакова как опыт «домашней» словесности / П. М. Тамаев // Вторые Аксаковские чтения : сборник материалов Всероссийской научной конференции (21—24 сентября 2006 г.). — Ульяновск : УлГУ, 2006.
- Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX века / А. Г. Тартаковский. — М. : Наука, 1991.
- Токарева Г. В. Русская автобиографическая литература в общественно-культурном контексте, конец XVIII — начало XIX века : автореф. дис. … канд. филол. наук / Г. В. Токарева. — Л. : ЛГУ, 1985. — 22 с.
- Чуркин А. А. Сюжет и герой в мемуарной прозе С. Т. Аксакова / А. А. Чуркин // Русская литература. — 2009. — № 3.