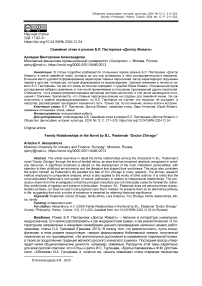Семейная этика в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»
Автор: Александрова Ариадна Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно разбираются отношения героев романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» в свете семейной этики, которые до сих пор оставались в тени исследовательского внимания. Большое место уделяется формированию характеров главных персонажей. Автор характеризует окружение героев в детстве, литературу, которая формировала их мировоззрение. Уделено внимание и личности самого Б.Л. Пастернака, так как его жизнь во многом совпадает с судьбой Юрия Живаго. Основным методом исследования избрано сравнение, в том числе применяемое в отношении произведений других писателей. Отмечается, что в романе репрезентирована авторская система ценностей, в том числе касающихся отношений с близкими. Заключается, что главные персонажи романа не созданы для семейной жизни, так как эгоистичны и крайне индивидуализированы, но Б.Л. Пастернак не считает это пороком, не осуждает, а напротив, рассматривает как вариант жизненного пути. Только так, по его мнению, можно войти в историю.
Б.л. пастернак, доктор живаго, семейная этика, лара антипова, юрий живаго, семейные отношения, этика, семья
Короткий адрес: https://sciup.org/149146693
IDR: 149146693 | УДК: 17:82-31 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.24
Текст научной статьи Семейная этика в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, Россия, ,
Moscow University for Industry and Finance “Synergy”, Moscow, Russia, ,
Л.Н. Толстого («Война и мир», «Анна Каренина» и др.). В большей или меньшей степени тема семьи присутствует в любом классическом литературном произведении, в том числе у А.С. Пушкина в «Евгении Онегине». Так что исследовать роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» с точки зрения семейной этики представляется закономерным в этом контексте. Интересное описание главных героинь (Лары и Тони) даётся в статье М.С. Зайцевой (Зайцева, 2013), и со многим в ней можно согласиться, однако целью нашей работы будет не разбор образов основных персонажей, а изучение семейных отношений как таковых, представленных Б.Л. Пастернаком в романе.
Формирование характеров . Как любой традиционный роман, «Доктор Живаго» содержит описание детства главных героев, мало того, это не вставная конструкция, а начало произведения. Именно в ранний период жизни у человека формируется характер, который определяет особенности его личности, поэтому детские годы очень важны для репрезентации персонажа в романе.
Десятилетним мальчиком Юра Живаго теряет мать, она умирает от чахотки, до этого долго пребывая на лечении во Франции и Италии. «Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые всё время менялись»1. Итак, мать практически не участвовала в воспитании сына из-за болезни и безвременной смерти, а родственники, попеременно бравшие его на попечение, не могли служить твердой семейной опорой для мальчика. Андрей Живаго, отец Юры, «богач, добряк и шелапут»2, тоже не принимает участия в воспитании сына. Позже мы узнаем, что он завел другую семью, но и ее также оставил вследствие беспутного образа жизни и пьянства.
У Лары рано умирает отец (инженер-бельгиец), мать, Амалия Карловна Гишар (обрусевшая француженка), переезжает с Урала в Москву. Там, пытаясь устроить свою жизнь, она заводит отношения с различными мужчинами, поскольку «с перепугу и от рассеянности всё время попадала к ним из объятия в объятие»3. В такой обстановке проходит детство главной героини.
Выросшие сироты и дети разведенных родителей стремятся к счастливой семейной жизни, но мало одного желания, необходимо формирование паттернов социальных ролей, наблюдение в детстве моделей адекватных семейных отношений. По мнению психологов и педагогов, «данный социальный дефицит затем проявляется при попытке создать свою собственную семью и часто является причиной семейных проблем» (Бегидова и др., 2024). Все это иллюстрирует жизнь главных героев романа Б.Л. Пастернака.
В «Анне Карениной» Л.Н. Толстого похожая ситуация складывается в детстве у Вронского, который «никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе»4. Однако Л.Н. Толстой осуждает Вронского, а Б.Л. Пастернак любит своего героя – Юрия Живаго, мало того, он даже пытается соединить в нем не только черты Вронского, но и любимого Л.Н. Толстым персонажа Левина. Об этом будет сказано ниже. Напомним, что Борис Леонидович считал Л.Н. Толстого «несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоевский, - писателем ранга Шекспира, Гёте и Пушкина»5.
Философские аспекты мировоззрения Юрия Живаго . Чтобы понять семейные взаимоотношения в романе, необходимо разобраться в характерах анализируемых героев. Юра Живаго во многом обязан своему дяде Николаю Николаевичу Веденяпину, мыслителю, расстриженному священнику, человеку холостому. Его философия связана с представлением «истории как второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти»6. Именно эту идею подхватывает Живаго, интерпретируя ее по-своему, и делает ее руководящим принципом своей жизни. Б.Л. Пастернак неоднократно возвращается к ней на страницах романа. Например, перед кончиной Анны Ивановны, мамы Тони, Юрий говорит ей: «Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали: талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант – в высшем, широчайшем понятии есть дар жизни»7. Как человек, который может творить историю, Живаго слаб, поэтому понятие истории (как ее понимал его дядя) он заменяет на «вещи, сотворённые нами», которые «останутся после нас». Останутся, конечно, только талантливо созданные вещи, поэтому талант так важен для рассуждений Живаго. Сам он наделен им, чувствует его в себе: «Юра хорошо думал и очень хорошо писал»,
«мечтал о прозе», но «отделывался вместо неё писанием стихов»1. Поэтому понятие «история» у него подменяется понятием «талантливо написанное произведение», которое будет жить в веках. Вспомним думы об искусстве Юрия Живаго на похоронах Анны Ивановны: оно «неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь»2.
Что касается отношений между представителями противоположного пола, то они оформляются под воздействием очень сложных произведений: «этот тройственный союз [Юрий Живаго, Миша Гордон, Тоня Громеко] начитался “Смысла любви” и “Крейцеровой сонаты” и помешан на проповеди целомудрия»3. Веденяпин, который уехал за границу и узнает об этом из писем, недоволен, он считает, что если бы он был рядом, все было бы по-другому. Действительно, эти произведения сложны для понимания подростков, мало того, они абсолютно по-разному интерпретируются критиками.
Повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната»4 ещё при жизни её автора вызвала бурю эмоций и абсолютно противоположные точки зрения критиков. Известны высказывания В.В. Розанова и Д.С. Мережковского по поводу этого произведения. Первым брачный союз рассматривается как христианская ценность, и дети в нем имеют ключевое значение, так как родители приобретают возможность приобщиться к жизни вечной через них как через свое продолжение. Для Д.С. Мережковского «брак и семья являются временным и несовершенным средством для того, чтобы объединять разделённые плоть и дух, и поэтому значение детей в его системе идей не так важно, как у Розанова» (Ким, 2012). Судя по всему, Б.Л. Пастернак тяготеет к точке зрения Д.С. Мережковского и передаёт этот взгляд своему герою.
«Смысл любви» – общее название сборника статей русского религиозного философа В.С. Соловьёва. Ключевой темой входящих в него произведений стали проблемы половой любви5. Материал статей имеет неоднозначную трактовку. В целом, В.С. Соловьёв далеко уходит от физиологии в сторону платонической концепции любви. В его представлении, это чувство не имеет никакого отношения к деторождению, что очень важно в контексте формирования взглядов Юрия Живаго на семью и брак.
Будучи подростком, Юрий попадает в семью Громеко и воспитывается вместе с их дочерью Тоней. По прошествии нескольких лет «он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти»6. Страсть как сильное и пламенное чувство рано или поздно перегорит, что мы и будем наблюдать на страницах романа. Итак, Живаго проявил себя как человек увлекающийся, страстный. Можно предположить, что здесь есть генетический след, так как те немногие сведения о его отце, которые сообщает нам автор, говорят о человеке, идущем на поводу у своих страстей.
Конечно же, в приличной и респектабельной семье Громеко все вылилось в брак, иначе быть не могло.
Примечательна сцена родов Тони. Юрий сидит в коридоре в клинике и нервничает, так как в это время должен быть на работе в своей больнице, а здесь, как ему кажется, он только даром теряет время. Его унылое настроение поддерживается погодой – за окном бесконечный дождь и ветер. Читателю не передается ни торжества рождения новой жизни, ни радости новоиспеченного отца. Мало того, сам Живаго в своих мыслях открещивается от собственного ребенка: «Он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве»7. Словно он здесь ни при чем. В этом его поддерживает Б.Л. Пастернак, которому как будто не нравится, что у его героя появился ребенок. После сцены родов автор помещает слова, что на службе, куда наконец-то попадает Юрий, его все начинают поздравлять. У читателя, как и у самого героя, возникает иллюзия, что эти поздравления связаны с рождением сына, но нет, в грязной ординаторской, похожей на «кабак и помойную яму», рассматривая «какую-то мутную жидкость в склянке», коллеги поздравляют его с удачно установленным диагнозом8. Б.Л. Пастернак намеренно снижает пафос повествования, чтобы показать обыденность рождения ребенка – это всего лишь один из эпизодов грубого житейского мира, он не интересует автора и не важен для главного героя – необходимо сосредоточиться на внутреннем мире, тонком и изящном мире идей. Именно для этого в роман вводятся философские выкладки и отсылки к известным произведениям. Такова позиция автора, и она, как мы увидим, будет поддерживаться на протяжении всего романа.
Теперь рассмотрим формирование характера Ларисы Гишар. Сам Б.Л. Пастернак указывает, что «у неё был ясный ум и лёгкий характер»1. От матери она унаследовала кокетство, она знает, что красива и любит испытывать действие своих чар на окружающих, умело пользуясь ими. Так она поймала в свои сети Пашу Антипова и попала в поле зрение Комаровского. Однако сначала у нее сложилось впечатление, что это она использует адвоката: ей льстило, что он «тратит деньги и время на неё, зовёт божеством, возит в театры и на концерты»2. Но после осознания, что это он ей пользуется, Лара возненавидела его. К матери и брату «она чувствовала большое отчуждение»3. Что же касается Комаровского, то ее ненависть к нему, скорее всего, носит декларативный характер, ведь именно к нему она идет за деньгами для свадьбы с Пашей и обустройства дальнейшей жизни в Юрятине. Ей обидно, что он не замечает ее в зале на елке у Свентицких. При этом стрельба из пистолета больше напоминает театральное действие, ведь автор сообщает нам, что из револьвера брата она пристрелялась «до большой меткости»4, но практически никто не пострадал. Сцена со стрельбой устраивается ей специально, чтобы напугать Комаровского, устроить скандал. И она добивается своего – деньги от Виктора Ипполитовича получены.
Этика семейных отношений . Ларисе нужно восстановить свое честное имя после связи с Комаровским, поэтому брак ей необходим. Правда, Лара, ломая руки, просит Павла бросить ее, недостойную и поруганную, но просит так, чтобы вызвать в душе у молодого человека жалость и сострадание. Иными словами, устраивает очередной спектакль, чтобы снять с себя ответственность за последствия – тебя же предупреждали. Брак с Павлом Антиповым состоялся. Однако муж несчастлив с Ларой, так как «она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворённый подвиг»5. У них появляется дочь Катенька, которую оставляют с нянькой Марфуткой, сама же Лара преподает в женской гимназии. Как пишет автор, она трудится «не покладая рук и счастлива»6. Обратим внимание, что Лара испытывает это чувство именно в работе. Уход с головой в преподавание – это побег от наболевших проблем. Отношения между супругами были «искусственны», Лариса использует его, а не любит, разыгрывая перед ним сцены счастливой семейной жизни. Приведем еще одну фразу из текста: «Лару тянуло к земле и простому народу»7. Итак, ее привлекает не Паша, не семья, а что-то абстрактное. Оля Дёмина, подруга детства Лары, так комментирует ситуацию: «Головой она за Пашку вышла, а не сердцем, с тех пор и шалая»8. Вообще разыгрывать сцены, «усложнять жизнь», по словам Тони, – это основная черта натуры Ларисы Фёдоровны. Приведем ее же слова: «Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всегда одно и то же!»9. Но именно этим она и понравится Живаго, поэту, мыслителю, для которого пресная жизнь не станет источником побуждения к актам творчества.
Антипов же настолько несчастлив с Ларой, что думает, не утопиться ли ему. Однако он находит более достойный выход из сложившейся ситуации – уходит добровольцем на фронт. Лара поглощена собой, она не видит мучений мужа, ей кажется, что ее простой Паша ничего не замечает, что его легко провести. Но у Антипова оказывается очень чуткая и ранимая душа, и он сразу чувствует ее нелюбовь к нему. Еще один эпизод, который показывает, что Лара плохо знает своего мужа: когда он отправляется на фронт (идет Первая мировая война), то она считает, что это всего лишь «очередная причуда».
Когда же выясняется, что все по-настоящему, Лара оставляет Катеньку в Москве у Липочки, а затем в качестве сестры милосердия отправляется на санитарном поезде на границу Венгрии, «откуда Паша написал своё последнее письмо». Кстати, Катеньку Лара частенько пристраивает в чужие руки. По Л.Н. Толстому, долг матери – быть рядом с ребенком, воспитывать его. Вспомним Анну Каренину, как она мучилась, когда ее разлучили с сыном Серёжей, а Лара сама отдает дочку. Пусть на время, но оно может обернуться вечностью, ведь и санитарный поезд может попасть под обстрел, она может погибнуть на фронте. Кто тогда будет воспитывать Катеньку? Лара об этом не думает, ей важно наладить отношения с Антиповым.
Павел Павлович тоже не думает о дочери. Он также мало знает о том, что такое нормальные семейные отношения, так как практически вырос в чужой семье. Вечно больная мать и отец, отбывающий наказание за участие в революции 1905 г., – эти обстоятельства способствовали тому, что Патулю пригрела семья Тиверзиных.
Получив ложное известие о смерти Паши, Лара решает, что «отдаст все силы Катеньке, бедной сиротке»1. Но это только декларация, потом мы увидим, что это не так. Однако эта игра в громкие фразы не дает ей возможности кинуться в объятия Живаго, который, оказавшись в том же госпитале, сразу почувствовал к ней страстное влечение. Нисколько не стесняясь, доктор Живаго пишет жене письмо, в котором ни строчки про любовь к ней, а все про армейские дела и необыкновенно умную Ларису Антипову. На что вполне оправдано Тоня пишет ответ, в котором советует ему дальше по жизни следовать за этой путеводной звездой; на бумаге письма видны следы слез.
В госпитале, рядом с комнатой Лары, Юрий Живаго чувствует «восхищенье жизнью», «брожение», «ток» – это не что иное, как страсть. Так что Тоня как чуткая жена все поняла правильно, предчувствия ее не обманули.
Живаго тоже склонен к декларации. Когда он едет домой, в его голове замыкаются два круга мыслей. Первый – это о поэзии домашней налаженной жизни. «Новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не любить её [Лару], так же как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря о семье и близких»2. Таким образом, первый круг мыслей – это как парадная вывеска, как ширма, за которой скрывается то, что обнажилось во втором, новом, круге мыслей: он старается относиться ко всем с любовью, причем под словом «все» подразумевается в том числе и семья, и близкие. Так же обращает на себя внимание слово «старался»: требует ли усилий истинная любовь к близким людям?
После возвращения в Москву первая мысль Живаго при виде сына, что «мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки»3. Это явная антипатия к собственному ребенку. Далее следует эпизод, где Шурочка воспринял его как чужого и ударил по лицу. Обескураженный отец тут же понял это как дурное предзнаменование. Во время болезни Сашеньки Юрий Андреевич ведет себя не как отец (мы нигде не увидим отцовской ласки), а как врач. На место Сашеньки можно поставить любого другого ребенка, и сцена будет описана теми же словами, ничего не изменится. Примечательно, что Б.Л. Пастернак пишет, что болезнь Сашеньки «встревожила» Живаго. То ли это тревога за жизнь ребенка, то ли он боится, что сам может заразиться инфекционным заболеванием. Автор не дает четкого ответа.
Сам доктор качественно меняется: по возвращении домой ему стало казаться, что его друзья «странно потускнели и обесцветились»4, что люди что-то из себя строят. Он даже завел дневник, где под заголовком «Игра в людей» описывает подобные случаи. Однако Живаго не видит изменений в себе. Жизнь, революционные события отражаются и на нем. Несмотря на то, что Живаго не любит чтения деклараций, не любит декламации как таковой, он сам подвержен этому. Например, он говорит членам своей семьи: «Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадёжнее»5. При этом он вместе с ними отправляется вглубь страны на Урал «в поисках незаметности»6.
Антонина Александровна дает мужу самую верную характеристику: «Удивительный ты всё-таки, Юра. Весь соткан из противоречий»7. Также Тоня в своем последнем письме отметит, что у него начисто отсутствует воля, а это значит, что он может легко пойти на поводу у своих страстей. Кстати, при встрече с юрятинским старожилом Самдевятовым Антонина спрашивает про Ларису Антипову, так как запомнила, что та родом из Юрятина. Тоня ничего не забывает.
Уже в Варыкине в своем дневнике Юрий Живаго оставляет запись о предполагаемой беременности Тони, при этом не очень лестно описывает ее внешность: «Тускнеет её лицо, грубеет кожа и начинают по-другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза, точно она со всем этим не управилась и запустила»8. А затем, будто бы оправдываясь перед самим собой, пишет, как «расторопна, сильна и неутомима Тоня»9.
В этом дневнике есть и другие любопытные фразы, раскрывающие характер главного персонажа. Например, такая: «Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир»10. Здесь Б.Л. Пастернак наделяет Живаго качествами Левина, любимого героя Л.Н. Толстого из романа «Анна Каренина». Но, как уже было сказано, у Живаго есть и качества Вронского. Соединить характеристики противоположных героев в одном не самая удачная попытка. И мы убедимся в этом: какие бы высокопарные слова не бросал Живаго, а сельский труд не для него. Вскоре после этого он обнаруживает у себя признаки наследственной сердечной болезни и понимает, что жить ему осталось недолго.
В том же дневнике Юрий Андреевич записывает: «Что мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение… А на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования»1. Итак, он сам называет свой главный недостаток – «трескучая фраза», то есть постоянная декларация и без того понятных вещей, да еще с пафосом – это одна из основных черт его натуры, скорее всего, продиктованная временем (он, как и многие другие, не избежал влияния эпохи). Только Живаго считает, что недостатком дарования не страдает, напротив, полагает, что талантлив. И читатель в этом действительно убеждается, когда обнаруживает цикл его стихотворений в конце романа. Именно это ощущение талантливости наполняет существование героя важным смыслом и побуждает увековечить себя в этом мире через собственные творения: стихи, статьи, дневниковые записи.
В книге 2 части 9 «Варыкино», в главе 8 Юрий Живаго в своем дневнике комментирует А.С. Пушкина, приводит две строчки из «Евгения Онегина», в которых выделяет слово «любовник», а потом соловья-любовника сравнивает с Соловьём-разбойником из русских былин. Смысл в том, что наш герой уже внутренне созрел для измены и, как былинный Соловей-разбойник, готов к разрушению (семейных уз), для него нет никаких моральных преград, как нет их для фольклорного чудовища. Так что дневник действительно помогает понять поступки доктора Живаго. Тем не менее Б.Л. Пастернак рисует его не монстром, он любит своего героя и изображает его человеком порывистым, страстным, увлекающимся, человеком со своими слабостями, а главное, напуганным своей близкой кончиной. Как врач Живаго не испытывает насчет сердечной болезни никаких иллюзий. Б.Л. Пастернак считает, что при таких обстоятельствах ему можно все.
Живаго стал обманывать Тоню, о чем и сообщает нам автор романа, но далее следуют слова «Он любил Тоню до обожания. Мир её души, её спокойствие были ему дороже всего на свете»2, а это уже декларация, самооправдание Юрия Андреевича перед самим собой. Интересен авторский комментарий: «Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал»3. Странная позиция Бориса Леонидовича, когда перед этим в дневнике Юрий Живаго записывает, как подурнела беременная Тоня, а вот Ларой он прямо-таки любуется, отмечая красоту, легкость движений и грацию. Она для него – как дар из рук Творца, как «Богом созданная белая прелесть»4. Именно эти слова и говорят о любви. А по отношению к жене Живаго, скорее всего, испытывает чувство долга.
Б.Л. Пастернак все время поддерживает своего любимого героя. Характерная сцена: когда Живаго, мучимый угрызениями совести, решил признаться Тоне в измене, то его путь от Лары домой описывается автором мрачно: «лес наполнялся холодом и темнотой». Юрий то и дело шлепает себя по телу, убивая комаров. К этому звуку добавлялись другие: «скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт наотлёт, вразмашку, по чмокающей грязи и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками»5.
Защелкал соловей, и Юрий Живаго как будто просыпается от неприятного сна, его осеняет мысль: зачем сейчас признаваться Тоне, ведь можно это сделать потом, а теперь повернуть обратно к Ларе. Что он и делает. Автор поддерживает его путь к Ларе соответствующими пейзажами и ощущениями. «Как он любит эти знакомые домики по пути к ней! Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал!»6. Комары исчезли, темнота тоже, конь больше не испускает «залпы из кишок».
Позже, в плену, Живаго опять вспомнит этих женщин. О Тоне он подумает, что к этому времени она должна была родить, и это все. Далее его мысли переключаются на Лару. Под влиянием Кубарихи он думает о своей любовнице: «Как он любил её! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо!»7. А дальше идет декларация, где он пытается в высокопарных словах рассказать, чем именно она ему нравится, и не находит слов, да они и не нужны – все уже сказано. Просто Лара красивая, просто ему с ней хорошо, чего не скажешь о
Тоне. Видимо, она некрасива. Про ее внешность автор сообщает, что Тоня похожа на своего дедушку Крюгера. Звуковая оболочка этой фамилии производит неприятные ощущения, а также ассоциации, например, со словами «крюки», «скрючивать». Но она хозяйственна, рядом с ней муж чувствует себя в долгу перед семьей, перед ребенком, а в отношении Лары такого долга нет. Тоня никогда не скатится в бездну страсти, забыв о семье, а Лара может – ее чувства к Катеньке гораздо слабее, чем материнский инстинкт Тони. Не забудем, что последняя воспитывалась в полной семье, где были мать и отец, причем Александр Александрович так и остался с Тоней до конца, помогая с детьми. Неудивительно, что дочь Лары от Живаго будет ожидать страшная судьба – она вполне предсказуема, ведь нестабильная семейная жизнь уже психологически заложена в детстве Ларисы, хорошая мать из нее не выйдет, ведь она сама отдает ребенка в чужие руки.
Такой же крен запрограммирован и в детстве Юрия, поэтому, находясь в плену и думая о сыне, он корит себя: «Да папа ли это, такими ли бывают настоящие папы?»1. Подлинной кульминацией отторжения Шурочки является сон из книги 2 части 13 «Против дома с фигурами» главы 8, где происходит выбор между сыном и любовницей в пользу последней. Ребенок, спасаясь от наводнения, рвется в дом, а Живаго его не пускает. «Обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика»2.
Выбор его очевиден, в тексте романа есть много сравнений между женой и Ларой. В партизанском лагере перед побегом Тоня ему представляется изможденной мученицей, бредущей по снегу в метель, держащей в руках новорожденного ребенка, и рядом он видит проваливающегося в снег Шурочку. А когда Юрий Андреевич выбирается из плена, то первые мысли у него возникают не о семье, а о любовнице: «Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя, рябинушка, родная кровинушка»3.
Характерно, что, будучи в плену, доктор, вспоминая близких, представляет Тоню, бредущую с детьми через пургу, а вот Лара видится ему как яркая щедрая рябина – на всех хватит (и на Комаровского, и на Антипова, и на него). Замученная Тоня и жизнерадостная красавица Лара – вот его взгляд на этих женщин.
Автор поддерживает Юрия Живаго в решении вернуться к Ларе: «Было совсем светло в часы, в которые ещё недавно темнело. Недавно ушла зима. Пустоту освободившегося места наполнил свет, который не уходил и задерживался вечерами. Он волновал, влёк вдаль, пугал и настораживал»4. Этот свет – Лара, здесь легко прослеживается связь с фразеологизмом «свет в окошке», обозначающим единственную отраду и заботу у кого-либо5. Лара отвечает ему взаимностью. Причин много: тут и накопившиеся обиды на Павла Антипова (повел себя не так, как ей хотелось), и симпатия к Живаго – он ей просто нравится, у них много общего. Так что Лару с Татьяной Лариной сравнивать нельзя: последняя свято блюдет узы брака, даже не любя мужа. «Но я другому отдана; Я буду век ему верна»6, – читаем у А.С. Пушкина. Для Б.Л. Пастернака брак – это нечто из области житейского мира, грубая субстанция, подобные узы, по его мнению, не должны связывать. Он приветствует раскрепощение нравов (до определенных пределов), которое было характерной чертой начала XX в., именно на этот период приходится молодость писателя.
В традиционном романе связь поколений важна – в «Докторе Живаго» же наблюдается обособленность персонажей из разных поколений. В Варыкине, где влюбленные соединяются, мы видим картину ненужности Катеньки – она все время путается под ногами и при этом жалуется на холод. Помимо низкой температуры воздуха можно предположить и холод душевный, так как ребенок взрослым не нужен, он лишний. Примечательно, что для своей куклы девочка построила жилище «более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым её таскали»7. И, нужно добавить, будут таскать.
Комаровский именно через Катеньку станет давить на материнские чувства Лары, требуя немедленного отъезда. Но Лара последует за ним не только из-за дочери. Живаго в задушевных разговорах с любимой как-то признался, что боится Комаровского как соперника, утверждая, что ей самой неизвестны все темные тайны ее женской души.
Кстати, адвокат называет Лару и Юрия детьми, «ни о чём не задумывающимися»8. Автор говорит нам о «чистоте отношений», когда Юрий Живаго и Лара скрываются в варыкинской избушке. Жены Тони и ее отца, которые могли бы их осудить, рядом нет. Они далеко, в Москве, слухи и сплетни туда не дойдут, да и разносить их некому – кругом пустыня. От этого и чистота, отсюда смелость и радость вкушения запретного плода. Для Б.Л. Пастернака детскость – это основное состояние творческой личности, поэтому то, что можно было бы осуждать на житейском уровне, у него приветствуется. Доктор Живаго в какой-то мере эгоист, его личностные желания всегда в приоритете, что характерно для детского восприятия жизни. А чувство «ребёнка в самом себе» для писателя является главным состоянием поэта и ученого – это двигатель творческой мысли. Вот что читаем в письме Бориса Пастернака к Марине Цветаевой от 20 апреля 1926 г.: «Я ведь не только женат, я ещё и я, и я полуребёнок»1. Так что в главном герое явно заложены черты самого автора.
Однако ребенок не может воспитать ребенка, поэтому Юрий Живаго не воспитывает своих детей (вспомним взаимоотношения с Шурой). Они существуют сами по себе, исключительно энтузиазмом их матерей.
По-детски наивная Лариса тоже не способна заботиться о Катеньке, хотя материнское начало в ней несколько сильнее, чем отцовские чувства Юрия Андреевича (их просто нет). Его иногда мучают уколы свести, но этим все и исчерпывается.
О Катеньке мы услышим еще в самом конце романа, когда Лариса Фёдоровна приедет в Москву по двум причинам: разыскать дочь от Живаго и устроить Катеньку в театральное училище или консерваторию, чтобы потом определить ее в интернат. Опять имеем дело с мотивом передачи ребенка в чужие руки.
После потери Лары Живаго опустился. Красавицы рядом нет, некому вдохновлять. В своих бумагах он пишет: «Искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть всё живущее, чтобы существовать, и, таким образом, искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования»2.
Вася Бастрыкин, с которым доктор пришел в Москву, удивлялся, как «холодны и вялы» были хлопоты Юрия Живаго «о политическом оправдании своей семьи и о узаконении их возвращения на родину и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женою и детьми в Париж»3.
Вернуть его к жизни берется давно влюбленная в него Марина Щапова, дочь дворника, некогда служившего у Громеко. На Марину доктор смотрит как на существо низменное, да и живет с ней только потому, что ее голос напоминает Ларин. Юрий Андреевич не возражает, чтобы она по старинке звала его по имени и отчеству, обращалась к нему на «вы», сам же неизменно говорит ей «ты». С житейской точки зрения это безнравственно, на что указывают его друзья Гордон и Дудоров. Живаго не нравится такое вмешательство, так как муки совести (а она у него есть) будут отвлекать его от умных мыслей, не дадут сосредоточиться, выведут из состояния вдохновения. Почувствовав смертельную болезнь (наследственную, неизбежную), он хочет увековечить свои размышления, изложив их на бумаге, поэтому ему не до выяснения отношений. После неприятного разговора с друзьями доктор исчезает.
Житейский план романа представляет нам Марину, которая с детьми (Капкой и Клашкой) на руках мечется по всей Москве, разыскивая пропавшего сожителя (они не расписаны), а Юрий Андреевич прячется в доме неподалеку, может быть, даже видит в окно ее метания. Неэтичная ситуация. Но автора она не интересует – это всего лишь грубый житейский план, а есть и творческий мир, тонкий, прекрасный, он-то и представляется Б.Л. Пастернаку главным.
Живаго стремится довести до конца свои дневники, оформить письменно свои мысли, передать что-то ценное другим поколениям (только в этом плане в романе и представлена связь поколений). У него, кстати, после смерти окажется много поклонников. Автор идет на выручку своему герою, обеляет ситуацию: он не сам исчез, а этому поспособствовал его сводный брат Евграф, который понимает творческую натуру Юрия и предоставляет ему убежище, а потом хлопочет, чтобы эти бумаги были разобраны надлежащим образом и отправлены в печать.
Взаимоотношения между братьями не классические, а односторонние. Юрий никогда не вспоминает Евграфа, не интересуется его жизнью, оттого она кажется загадочной непроницаемой тайной. Сам же он всегда принимает помощь и заботу младшего брата, который в произведении играет роль «бога из машины» (deus ex machina).
Все основные персонажи в романе проявляют себя как крайние индивидуалисты, не приспособленные к семейной жизни: Лара любит превращать все в вечный спектакль; Юрий Живаго жаждет увековечить собственное имя в истории; Паша Антипов хочет доказать Ларе, что он достоин ее любви. Этим людям не нужны дети, так как каждый из них сосредоточен на себе.
Как видим, главные герои не созданы для семейной жизни, и автор это настойчиво подчеркивает. Если для Л.Н. Толстого семья – это высшая форма единения людей, то для Б.Л. Пастернака семья вообще не интересна – высшей формой проявления человеческого существования он считает творчество.
Заключение . В романе реализуется два плана: 1) мир глазами поэта-доктора, где главным является вдохновение, и неважно, за счет чего оно получено; 2) мир со стороны житейской ситуации. Это нехарактерно для классического русского реалистического романа, как и для русской философии, которой житейский план вообще неинтересен. Б.Л. Пастернак же производит это деление, смешивая разные предметные области, то есть выступает как экспериментатор. Для него главное – первый план, что расходится с вектором развития реалистического романа, так как семья, в которой воспитывается герой, и семья, которую он сам создает или планирует создать имеют ключевую значимость.
В более широком плане семья – один из факторов, делающий человека человеком. Этика взаимодействия с близкими – часть философии любви, где эгоизм неприемлем. Основой семейных отношений выступает сопереживание и забота о любимом человеке. Именно в них зарождаются важные понятия о добре и зле, что впоследствии будет необходимо для морального выбора в той или иной ситуации. Целью создания союза мужчины и женщины всегда были дети как предмет любви, заботы и тиражирования семейной морали и ценностей. Кроме того, продолжение рода может рассматриваться как акт творчества, например, русский философ В.В. Розанов пишет: «Рождаемость не есть ли тоже выговариваемость себя миру…»1. И.А. Ильин в своей работе «Путь духовного обновления» рассуждает о роли семьи в духовном созидании общества: «Утончённейшее, благороднейшее и ответственнейшее искусство на земле – искусство воспитания детей – почти всегда недооценивается и продешевляется». Если в семье нет духовного единства, то она обречена на «разложение и распад». Кроме того, идею «родины» И.А. Ильин выводит из недр семьи – по его мнению, это основа общества (Ильин, 2017). Н.О. Лосский в книге «Условие абсолютного добра. Основы этики» пишет: «Семейная жизнь, особенно связь родителей с детьми, есть наиболее естественный путь развития способности к личной любви, ведущий и дальше за пределы семьи. Даже гордыня, отчуждающая от людей, может быть незаметно и постепенно преодолена» (Лосский, 2011). А в Юрии Андреевиче Живаго гордыня присутствует, однако автор романа, указывая на этот факт, преподносит ее не как порок, а как добродетель.
В процессе самосовершенствования (соотнесения своей жизни с идеей блага) семья не дает зацикливаться на своем «я». Она формирует ту среду, которая раскрывает истину о себе самом, то есть участвует в процессе воспитания, определяя характер личности. Б.Л. Пастернак спорит со всеми этими принципами. Мир для его героя, Юрия Живаго, поделен на две непересе-кающиеся сферы. Согласно концепции, перенятой от дяди Веденяпина, Живаго нужно оставить свой след в истории, а для этого необходимо отделить себя от обыденности, от проблем бренного мира и сконцентрироваться на творчестве. Поэтому он не интересуется собственными детьми, после встречи с вдохновительницей Ларой жена становится не нужна, про тестя, в доме которого он вырос, Юрий Андреевич еще меньше вспоминает. Напрашивается вывод, что доктор – эгоист. Философы и психологи давно изучают это свойство человеческой натуры. Э. Фромм утверждал, что пожелание человеку «не быть эгоистом» неоднозначно, поскольку может означать призыв «не любить себя» и «не быть собой», подавляя тем самым свободное развитие личности, а вследствие этого и творческих способностей (Фромм, 2008: 564). Однако эгоизм Живаго граничит с солипсизмом и противоречит этике семейных отношений.
Тем не менее автор романа не осуждает своих героев, поскольку понимание категорий добра и зла для Б.Л. Пастернака свое, отличное от общепринятого. Высшее добро, благо, по его мнению, – это творчество и сохранение результатов этих творческих актов в веках. Зло – это то, что мешает творить и сохранять плоды творений. Соответственно, семья (особенно дети!) отвлекает от творчества и попадает в категорию зла. Если вспомнить время, когда Б.Л. Пастернак формировался как писатель, а это очень неоднозначный период начала XX в. – декаданс, характеризующийся индивидуализмом и имморализмом, то многое становится понятным. Видимо, тогда у писателя сложилась особая система ценностей, в том числе и семейных, что необходимо учитывать при изучении его произведений.
Список литературы Семейная этика в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»
- Бегидова С.Н., Хуажева Д.Д., Ахтаов Р.А. Готовность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к ответственному супружеству как социальная проблема // Endless Light in Science. 2024. Т. 2, № 2. С. 75-80.
- Гримова О.А. Жанровое своеобразие романа «Доктор Живаго» // Новый филологический вестник. 2013. № 2 (25). С. 7-44.
- Зайцева М.С. Женщина и «женщины» в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Вестник Академии знаний. 2013. № 4 (1). С. 149-154.
- Ильин И.А. Путь духовного обновления. М., 2017. 480 с.
- Ким М. Брак и семья у В. Розанова и Д. Мережковского (две интерпретации «Крейцеровой сонаты» и «Анны Карениной» Л. Толстого) // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2012. № 18 (98). С. 124-134.
- Лосский Н.О. Условие абсолютного добра. Основы этики. Минск, 2011. 528 с.
- Фромм Э. Человек для самого себя. М., 2008. 700 с.