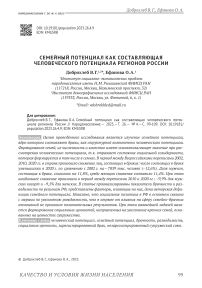Семейный потенциал как составляющая человеческого потенциала регионов России
Автор: Доброхлеб В.Г., Ефанова О.А.
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Качество и условия жизни населения
Статья в выпуске: 4 т.26, 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью проведённого исследования является изучение семейного потенциала, ядро которого составляют браки, как структурной компоненты человеческого потенциала. Формирование семей, их численность и качество имеет основополагающее значение при рассмотрении человеческого потенциала, т.к. отражает состояние социальной солидарности, которая формируется в том числе в семьях. В период между Всероссийскими переписями 2002, 2010, 2020 гг. в стране произошло снижение лиц, состоящих в браках: число состоящих в браке уменьшилось в 2020 г. по сравнению с 2002 г. На - 7839 тыс. человек (-12,6%). Доля мужчин, состоящих в браке, снизилась на 11,8%, среди женщин снижение составило 11,4%. При этом наибольшее снижение произошло в период между переписями 2010 и 2020 гг.: - 9,9% для мужских когорт и - 9,5% для женских. В статье проанализированы показатели брачности и разводимости по регионам РФ, представлены факторы, влияющие на них, дана авторская дефиниция семейного потенциала. Показано, что социальная политика в РФ в основном связана с мерами по увеличению рождаемости, что в отрыве от влияния на сферу семейно-брачных отношений не приносит положительных результатов. При этом важнейшей задачей является формирование социальных ценностей, направленных на увеличение крепких семей, основанных на ценностях супружества.
Человеческий потенциал, семейный потенциал, брачность, разводимость, социальные ценности, зарегистрированный брак, незарегистрированный супружеский союз
Короткий адрес: https://sciup.org/143181168
IDR: 143181168 | DOI: 10.19181/population.2023.26.4.9
Текст научной статьи Семейный потенциал как составляющая человеческого потенциала регионов России
Целью проведённого исследования является изучение семейного потенциала, ядро которого составляют браки, как структурной компоненты человеческого потенциала. Формирование семей, их численность и качество имеет основополагающее значение при рассмотрении человеческого потенциала, т. к. отражает состояние социальной солидарности, которая формируется в том числе в семьях. В период между Всероссийскими переписями 2002, 2010, 2020 гг. в стране произошло снижение лиц, состоящих в браках: число состоящих в браке уменьшилось в 2020 г. по сравнению с 2002 г. на — 7839 тыс. человек (–12,6%). Доля мужчин, состоящих в браке, снизилась на 11,8%, среди женщин снижение составило 11,4%. При этом наибольшее снижение произошло в период между переписями 2010 и 2020 гг.: –9,9% для мужских когорт и –9,5% для женских. В статье проанализированы показатели брачности и раз-водимости по регионам РФ, представлены факторы, влияющие на них, дана авторская дефиниция семейного потенциала. Показано, что социальная политика в РФ в основном связана с мерами по увеличению рождаемости, что в отрыве от влияния на сферу семейно-брачных отношений не приносит положительных результатов. При этом важнейшей задачей является формирование социальных ценностей, направленных на увеличение крепких семей, основанных на ценностях супружества.
: человеческий потенциал, семейный потенциал, брачность, разводимость, социальные ценности, зарегистрированный брак, незарегистрированный супружеский союз.
лючевые слова:
Человеческий потенциал (ЧП) структур‑ но может быть представлен многообразны‑ ми компонентами, которые имеют различ‑ ное наполнение для тех или иных социаль‑ но‑демографических групп. Информаци‑ онной базой исследования стали статисти‑ ческие данные по регионам РФ за 2021 г., материалы Всероссийских переписей насе‑ ления 2002, 2010 и 2020 гг., результаты ис‑ следований зарубежных и отечественных учёных, а также данные социологических опросов, проведённых с участием авторов. Выбор 2021 г. для исследования обусловлен тем, что перепись 2020 г. фактичеки прошла в 2021 году.
Обзор исследований и методологические подходы к определению и анализу семейного потенциала
Учёными были созданы, а в дальней‑ шем и структурированы современные концепции человеческого потенциала [1]. На междисциплинарном уровне дан‑ ные подходы разделены по трём основ‑ ным направлениям: общетеоретическо‑ му, социально‑экономическому и социо‑ логическому. Общетеоретический подход концентрирует внимание на выявлении социальной сущности человека и возмож‑ ностях её применения [2, с. 20]. При этом подходе человеческий потенциал связан со способностями людей к разнообразным социальным действиям. Содержательно структура человеческого потенциала со‑ стоит из шести показателей: здоровья; го‑ товности к семейной жизни и воспитанию детей; знаний и квалификации; приспо‑ собляемости к социальной инфраструк‑ туре; культурно‑ценностных ориентаций и психологической компетентности. Груп‑ па социально‑экономических теорий ЧП базируются на утверждении, согласно ко‑ торому целью социально‑экономическо‑ го развития является не уровень дохода, или объём ВВП, а растущие возможности людей прожить долгую, здоровую жизнь [3–7]. Н. М. Римашевская подчёркивала, что ЧП обусловлен как качественными, так и количественными характеристика‑ ми населения. Она уделяла существенное внимание анализу потенциала различных половозрастных групп населения, в том числе с использованием гендерного под‑ хода [8]. Н. М. Римашевская выделила ряд фундаментальных компонент, составляю‑ щих качественную характеристику насе‑ ления: здоровье, профессионально‑обра‑ зовательные способности, формирующие интеллектуальный потенциал, культурно‑ нравственные ценности и духовность гра‑ ждан, их социокультурная активность [9, с. 54]. Т. И. Заславская предложила в чис‑ ле элементов человеческого потенциала: социально‑демографический, социально‑ экономический; социокультурный; дея‑ тельностный потенциал [10].
Ряд исследователей выделяют такую компоненту человеческого потенциала как семейный потенциал. Некоторые учё‑ ные рассматривают семейный потенци‑ ал как подвид социального потенциала [11]. В ряде работ даётся определение се‑ мейного потенциала как интегрального показателя, в первую очередь, связанно‑ го с воспроизводственной функцией [12; 13]. В рамках данного исследования пред‑ лагается следующая авторская дефини‑ ция семейного потенциала: «Семейный потенциал является одной из составляю‑ щей человеческого потенциала и входит в его демографическую компоненту. Се‑ мейный потенциал отражает склонность населения к семейной жизни, формиру‑ ется пронаталистским поведением массо‑ вых слоев населения, под влиянием кото‑ рого складывается посемейная структура поселений, регионов, стран. Семейный по‑ тенциал может измеряться в количествен‑ ных и качественных показателях. Коли‑ чественные показатели семейного потен‑ циала определяются такими факторами, как численность и половозрастная струк‑ турой населения, склонность населения к формированию семейно‑брачных отно‑ шений, которые измеряются демографи‑ ческими показателями, базирующихся на результатах переписей населения, пока‑ зателях брачности и разводимости и дру‑ гих. Формирование семей, их численность и качество имеет основополагающее зна‑ чение при рассмотрении человеческого потенциала, т.к. отражает состояние соци‑ альной солидарности, которая формирует‑ ся в том числе в семьях. Качественные по‑ казатели, характеризующие семейный по‑ тенциал основаны на результатах социо‑ логических опросов по семейным ценно‑ стям и социальным нормам».
В. Е. Черникова и Н. И. Мазаева отме‑ чают, что наличие центробежных тенден‑ ций — характерная особенность современ‑ ных семейно‑гендерных отношений, об‑ условленных стремлением к удовлетво‑ рению индивидуальных потребностей супругов [14, с. 272]. Ослабление супру‑ жеских связей, как сложный современ‑ ный вызов, рассматривал в своих работах С. И Голод. По его мнению, «невозможно представить себе совмещение: полного «слияния» в любви и признания эротиче‑ ской автономии для каждого из супругов; долг друг перед другом и свободу растор‑ жения союза; непререкаемый авторитет одного из партнёров и их эгалитарность; взаимное поощрение профессиональ‑ ных амбиций и готовность к выстраива‑ нию собственных индивидуальных био‑ графий — всё это не может функциони‑ ровать в традиционной моногамии» [15, с. 48]. Вместе тем результаты социологи‑ ческих опросов регулярно подтверждают высокую социальную ценность семьи для разных поколений нашей страны. Между‑ народные исследования показывают, что направленность динамики демографи‑ ческих процессов определяется измене‑ ниями ценностей и норм. Р. Инглхарт со‑ вместно с другими исследователями пред‑ ложил учитывать в числе наиболее значи‑ мых индикаторов социальных изменений взгляды населения на семейные, гендер‑ ные и сексуальные отношения [16; 17].
Фундаментальным вопросом современ‑ ности остаётся вопрос: «крепкая семья» — это традиционная ценность прошлого или будущего? Может ли общество реально воз‑ действовать на социальные изменения, и что является потенциальной, «огромной силой»? На эти вопросы П. Сорокин дал от‑ вет в одной из своих книг «Главные тен‑ денции нашего времени». Это «увеличение неэгоистической творческой любви» [18, с. 229]. Вопрос в том, готовы ли мы к реше‑ нию этой задачи.
Семейный потенциал современной России
Численность населения и его состав яв‑ ляется основой расчётов количественных показателей человеческого потенциала населения как на макро‑, так и на мезо‑ уровнях. Между Всероссийскими перепи‑ сями населения 2010 1 и 20202 гг. населе‑ ние РФ увеличилось на 2041 тыс. человек. За счёт роста городского населения при‑ бавилось 3438 тыс. человек, а число сель‑ ских жителей в этот период сократилось на 1397 тысяч. Впервые со времени по‑ следней переписи, проведённой в СССР в 1989 г., на 2 процентных пункта (п.п.) вырос уровень урбанизации России. По данным переписи 2020 г. в России оста‑ ётся существенным разрыв в соотноше‑ нии полов: в стране проживало 68431тыс. мужчин и 78750 тыс. женщин. Среди го‑ рожан число женщин превышает число мужчин на 9062 тыс. человек, на селе — на 1256 тысяч. В промилле соотношение мужчин и женщин на макроуровне состав‑ ляет 1151.
За период между Всероссийскими пере‑ писями увеличилось число россиян в воз‑ растах 16+. В том числе на +3628 тыс. че‑ ловек в период между 2002 и 2020 гг., и на +2775 тыс. человек в 2020 г. по срав‑ нению с 2010 годом. При этом число со‑ стоящих в браке уменьшилось в 2020 г. по сравнению с 2002 г. на 7839 тыс. человек (–12,6%), а в период между 2020 и 2010 гг.— на 6403 тыс. человек (–9,6%). В сравнении данных переписей 2020 и 2002 гг. доля мужчин, состоящих в браке, снизилась на 11,8%, среди женщин на 11,4%. При этом наибольшее снижение произошло в пе‑ риод между переписями 2010 и 2020 гг.: –9,9% для мужских когорт и –9,5% — для женских. Отметим, что снизилось количе‑ ство зарегистрированных браков (в 2020 г. по сравнению с 2002 г. снижение состави‑ ло 6635 тыс.человек (или 10,8%) и возросла численность населения, состоящего в не‑ зарегистрированном супружеском союзе (+2181 тыс. человек). Женщины чаще отме‑ чают, что они состоят в браке. Наблюдается рост разведённых, особенно между пере‑ писями 2002 и 2010 годов. Между перепи‑ сями 2010 и 2020 гг. наблюдался рост чис‑ ленности лиц в возрасте 16+ никогда не со‑ стоявших в браке.
По нашей гипотезе изменения в сфере браков в РФ связаны с двумя тенденция‑ ми: во‑первых, с особенностями воспроиз‑ водства населения, влиянием процесса ста‑ рения населения на половозрастную струк‑ туру; во‑вторых, с динамикой социальных ценностей массовых слоёв населения. Из‑ менения демографической структуры на‑ селения, в том числе в соотношении полов в различных возрастных когортах, а также динамика браков и разводов являются су‑ щественными факторами, влияющими на семейный потенциал в его количественном измерении
Изменения состояния семейного потен‑ циала можно измерять показателями брач‑ ности и разводимости. Сокращение числен‑ ности браков, растущая численность оди‑ ноких людей, высокий уровень разводов ухудшают состояние семейного потенциа‑ ла. В связи с этим определяющими факто‑ рами, оказывающими влияние, на форми‑ рование семейного потенциала являются: 1) общий коэффициент брачности на 1000 человек населения; 2) общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения; 3) доля мужчин и женщин, никогда не состо‑ явших в браке; 4) доля населения от 16 лет и старше, в т.ч. доля мужчин и женщин; 5) доля никогда не состоявших в браке в воз‑ расте 18–34 года.
В рамках оценки семейного потенциа‑ ла нами были рассмотрены регионы РФ по показателям общих коэффициентов брач‑ ности и разводимости, которые измеря‑ ются в промилле, что показывает интен‑ сивность данных процессов в различных регионах страны. Наименьшие коэффи‑ циенты брачности в этот период наблю‑ дались в республиках Северная Осетия — Алания и Дагестан— 4‰. Самые высокие показатели брачности зарегистрирова‑ ны в Санкт‑Петербурге— 9,3‰, Калинин‑ градской области — 7,6‰, Краснодарском крае — 7,5‰ 3.
В ходе исследования была проведена корреляция данного показателя с таки‑ ми факторами как среднедушевые дохо‑ ды на человека в месяц, долей населения с доходами ниже прожиточного миниму‑ ма (ПМ), а также удельным весом сельско‑ го населения в общей численности населе‑ ния региона. Полученные результаты по‑ казали, что проживание в сельской мест‑ ности оказывает отрицательное влияние на показатели брачности (–0,55), что по нашей гипотезе обусловлено возрастной структурой сельского населения. Факторы среднедушевых доходов и бедности насе‑ ления регионов имеют разнонаправлен‑ ные векторы: доля бедных в регионе сни‑ жает показатели брачности (–0,49), а пока‑ затели среднедушевых доходов повышают возможности для заключения брака (0,43). Это позволяет предположить, что матери‑ альное благополучие, его укрепление — су‑ щественный фактор для создания новых семей в стране.
Показатели устойчивости брака оцени‑ ваются коэффициентом общей разводи‑ мости в регионах РФ. Самый высокий по‑ казатель разводов выявлен в Еврейской АО — 6,4‰. Самый низкий — в Чеченской Республике, где общий коэффициент раз‑ водимости в 2021 г. составлял 2,5‰ 4. Было выбрано пять факторов, оказывающих влияние на уровень разводов в регионах, в том числе: среднедушевые доходы на че‑ ловека в месяц, доля населения с доходами ниже ПМ, удельный вес сельского населе‑ ния в общей численности жителей региона, а также средняя ожидаемая продолжитель‑ ность жизни (ОПЖ) для обоих полов и по‑ требительские расходы на душу населе‑ ния. Корреляционный анализ показал, что ОПЖ для обоих полов (–0,53) и удельный вес сельского населения в общей численно‑ сти населения (–0,35) снижают показатели разводимости в регионах. Доля же населе‑ ния с доходами ниже ПМ (–0,12), потреби‑ тельские расходы на душу населения (0,28) и среднедушевые доходы на человека в ме‑ сяц (0,25) связаны с уровнем разводимости в меньшей степени. Проведённый анализ подтвердил определённую значимость ма‑ териальных факторов для сферы семейно‑ брачных отношений.
Семья как социальная ценность жителей России.
Как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечают, что происходит трансформация семейных норм и ценно‑ стей. В работе «Третья волна» Э. Тоффлер связывает изменения в жизни современ‑ ной цивилизации с тремя волнами пере‑ мен. Третья волна — это сегодняшняя эпо‑ ха, обусловленная переходом к постин‑ дустриальной цивилизации. По мнению исследователя, эта новая цивилизация изменяет все сферы человеческой жиз‑ ни, в том числе семейные отношения [19, с. 31]. Семейные ценности связаны с широ‑ ко распространёнными представлениями о наиболее приемлемых нормах, моделях и стратегиях жителей той или иной страны о семье и её месте в системе базовых цен‑ ностей. Российские исследователи М. Фаб‑ рикант и В. Магун в статье «Семейные цен‑ ности россиян и европейцев» [20] исполь‑ зовали материалы одной из волн Европей‑ ского исследования ценностей (European Values Study), проведённого в 2008 г. в 48 странах Европы (N=67786). Ими подтвер‑ ждено наличие «обобщённого параметра традиционности‑современности», позво‑ ляющего выявить разницу нормативных взглядов на семейно‑гендерные отноше‑ ния. Население 11 стран находятся в той же группе, что и РФ (Греция, Косово, Ру‑ мыния, Северная Македония, Черногория, Северный Кипр, Словакия, Мальта, Болга‑ рия, Венгрия, Босния и Герцеговина). Гра‑ ждане 28 стран имеют более либераль‑ ные взгляды на семью. Это преимуще‑ ственно западноевропейские и скандинав‑ ские страны, а также (в порядке возраста‑ ния либеральности) — Латвия, Белоруссия. Сербия, Эстония, Польша, Литва, Чехия, Хорватия и Словения. Население 8 стран (Кипр, Албания, Украина, Армения, Молда‑ вия, Турция, Азербайджан, Грузия) по нор‑ мативным установкам относятся к более консервативным.
Опрос «Ценности семейно‑детного об‑ раза жизни», проведённый в 2019 г. со‑ трудниками социологического факульте‑ та МГУ, показал, что респонденты отнесли семью, детей и заботливых близких к чис‑ лу важнейших жизненных ценностей. Од‑ нако данная ценность на 0,8 ниже ранга та‑ кой социальной ценности как здоровье [21, с. 23]. По данным опроса «Брак, совместная жизнь, брачный возраст: в поисках опти‑ мальной модели», проведённого ВЦИОМ в 2021 г., более двух третьих (71%). из числа опрошенных россиян считают, что предпо‑ чтительнее оформить брак и жить в семье (78% в 2017 г.). При этом каждый десятый ответил, что можно жить в семье, но брак не регистрировать, среди молодёжи тако‑ го мнения придерживаются 14% респон‑ дентов. 11% ответили, что одиночество предпочтительнее семейной жизни (5% в 2017 г.) 5. Исследование «Ресурсный по‑ тенциал старшего поколения», проведён‑ ное с участием авторов в 2022 г. в Красно‑ дарском крае (N=804 респондентов в возра‑ сте 50 лет и старше), показывает высокую ценность семьи для старшего поколения (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее важные жизненные ценности пожилых мужчин и женщин, Краснодарский край, %*
Table 1
The most important life values of older men and women, Krasnodar krai, %
|
Ценность |
Мужчины |
Женщины |
Всего |
|
Крепкая семья |
70,2 |
64,6 |
66,8 |
|
Здоровье |
84,8 |
90,5 |
88,3 |
|
Дети, внуки |
35,3 |
83,0 |
64,7 |
|
Материальное благополучие |
40,1 |
18,2 |
26,6 |
|
Работа |
8,4 |
4,8 |
6,2 |
|
Надёжные друзья |
13,6 |
2,2 |
6,6 |
|
Образование |
0,6 |
- |
0,2 |
|
Религия, вера |
2,3 |
11,5 |
8,0 |
|
Самореализация |
5,5 |
3,0 |
4,0 |
*Сумма не равна 100%, т.к. по методике опроса можно было выбрать несколько ответов.
Источник: результаты исследования «Ресурсный потенциал старшего поколения», 2022 год.
Для пожилых мужчин семья является бо‑ лее значимой ценностью, чем для женщин старших возрастов. Выявлено, что семей‑ ный статус оказывает положительное влия‑ ние на реализацию своих мечтаний: более двух третей состоящих в браке опрошенных мужчин реализовали свои мечты; среди не состоящих в браке — это лишь каждый вто‑ рой респондент (табл. 2). Отметим, что доля женщин старших возрастов, реализовав‑ ших свои мечты, также выше у состоящих в браке.
Таблица 2
Мнение мужчин 50 + о том, смогли ли они реализовать свои мечты, в зависимости от семейного статуса, Краснодарский край,%
Table 2
The opinion of men aged 50+ whether they have realized their dreams, depending on family status, Krasnodar krai,%
|
Брачный статус |
Нет |
В настоящее время нет, но я надеюсь, что у меня для этого ещё есть время |
Да |
|
Состоящие в браке |
14,9 |
14,4 |
70,7 |
|
Не состоящие в браке |
25,3 |
19,5 |
55,2 |
Источник: результаты исследования «Ресурсный потенциал старшего поколения», 2022 год.
Основным мотивом создания семьи яв‑ ляется любовь. Именно этот ответ выби‑ рают жители нашей страны, что подтвер‑ ждают, как опросы ВЦИОМ, так и другие социологические исследования [22]. Поня‑ тие «крепкая семья» безусловно включает в себя продолжительность семейной жизни. Как отмечает А. Б. Синельников, по опросам МГУ, средняя продолжительность брака со‑ ставляет 16,7 лет. С возрастом респондентов этот показатель растёт: среди респондентов в возрастах старше пятидесяти лет продол‑ жительность брака достигает 26,8 года. По‑ казано, что длительность незарегистриро‑ ванного брачного союза почти в три раза короче, чем продолжительность зареги‑ стрированных браков [23].
Заключение
Подходы к анализу человеческого по‑ тенциала, несмотря на их широкий спектр, как правило, не включают в число показа‑ телей, его формирующих, семейный по‑ тенциал, или сводят семейный потенциал лишь к его воспроизводственной функции. Вместе с тем формирование семей, их чис‑ ленность и качество имеет основополагаю‑ щее значение при рассмотрении человече‑ ского потенциала, т.к. отражает состояние социальной солидарности, которая фор‑ мируется в том числе в семьях. Авторами дано определение семейного потенциала, который обусловлен склонностью населе‑ ния образовывать семейные союзы, пре‑ жде всего, зарегистрированные. Ранее рос‑ сийскими исследователями подтверждено наличие «обобщённого параметра тради‑ ционности‑современности», позволяюще‑ го выявить разницу нормативных взглядов на семейно‑гендерные отношения россиян и европейцев. «Россия является страной со средне‑высоким уровнем традиционности высказываемых нормативных взглядов» [20, с. 13]. Показано, что между переписями
2002, 2010 и 2020 гг. снизилось число муж‑ чин и женщин, состоящих в браке. Выявле‑ ны факторы, влияющие на количественные показатели семейного потенциала. Рассчи‑ тана корреляция представленных факто‑ ров с региональными показателями брач‑ ности и разводимости. Подтверждено, что браки, в первую очередь официально заре‑ гистрированные, положительно влияют как на продолжительность брачных союзов, так и на возможность реализовать личные меч‑ ты. Вместе с тем авторы разделяют вывод А. Б. Синельникова о том, что в настоящее время социальная политика в РФ в основ‑ ном связана с мерами по увеличению ро‑ ждаемости, что в отрыве от влияния на сфе‑ ру семейно‑брачных отношений не прино‑ сит положительных результатов. При этом важнейшей задачей является формиро‑ вание социальных ценностей, направлен‑ ных на увеличение количества крепких се‑ мей, основанных на эгалитарных ценностях супружества.
Список литературы Семейный потенциал как составляющая человеческого потенциала регионов России
- Быченко, Д. Ю. Методологические основы исследования человеческого потенциала / Д. Ю. Быченко // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. — 2011. — Т. 11. — Вып. 2. — С. 56–60. DOI: 10.18500/1818–9601–2011–11–2–56–60; EDN: ODZTDP
- Генисаретский, О. И. Концепция человеческого потенциала: основные положения / О. И. Генисаретский, Н. А. Носов, Б. Г. Юдин // Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / ред. И. Т. Фролов — Москва: Эдиториал УРСС. 1999. — 176 c.
- Sen, A. Development as Capability Expansion / A. Sen // Journal of Development Planning. — 1989. — No. 19. — P. 41–58.
- Римашевская, Н. М. Человеческий потенциал России: взгляд в XXI век / Н. М. Римашевская // Народонаселение. — 1999. — № 1. — С. 9–19. EDN: VGAOBU
- Римашевская, Н. М. Качественный потенциал населения России: взгляд в XXI век / Н. М. Римашевская // Проблемы прогнозирования. — 2001. — № 3. — С. 34–48. EDN: HRTODT
- Римашевская, Н. М. Качество человеческого потенциала в современной России / Н. М. Римашевская // Безопасность Евразии. — 2004. — № 1(15). — С. 14–32. EDN: RDPQCL
- Римашевская, Н. М. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения населения» / Н. М. Римашевская // Российский экономический журнал. — 2004. — № 9–10. — С. 22–40. EDN: PGKVEN
- Женщины, мужчины, семья в России: последняя треть XX века. Проект «Таганрог» / под ред. Н. М. Римашевской. — Москва: ИСЭПН РАН, 2001. — 320 с.
- Римашевская, Н. М. Человек и реформы: Секреты выживания / Н. М. Римашевская. — Москва: ИСЭПН РАН, 2003. — 392 с.
- Заславская, Т. И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе / Т. И. Заславская // Общественные науки и современность. — 2005. — № 4. — С. 13–25. EDN: OOUYRP
- Шок, Н. П. Социальный потенциал семьи в контексте реализации семейной политики в современной России / Н. П. Шок // Социальная политика и социология. — 2010. — № 8. — С. 178–182. EDN: MYUHHZ
- Сазонов, А. А. Семейный потенциал молодых москвичей в условиях социокультурной неоднородности мегаполиса / А. А Сазонов, А. Л. Сазонова // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). — 2015. — Т. 6. — № 3–1(23). — С. 162–170. EDN: UKWGCT
- Доброхлеб, В. Г. Семейный потенциал в условиях модернизации современной России / В. Г. Доброхлеб, Н. А. Кондакова // Проблемы развития территории — 2017. — Вып. 6(92) — С. 94–107. EDN: ZULVWP
- Черникова, В. Е., Динамика семейных ценностей: от традиционных до постсовременных / В. Е Черникова, Н. И. Мазаева // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. — 2019. — Т. 8. — № 1А. — С. 267–275. DOI: 10.25799/AR.2019.41.1.029; EDN: VYVFYP
- Голод, С. И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи / С. И. Голод // Социс. — 2008. — № 1. — С. 40–49. EDN: IPWLWL
- Borinskaya, S. Genetic Factors, Cultural Predispositions, Happiness and Gender Equality / S. Borinskaya [и др.] // Journal of Research in Gender Studies. — 2014 — Vol. 4 — No. 1. — P. 32–100.
- Inglehart, R. Modernization, cultural change, and democracy: Thehuman development sequence / R. Inglehart, C. Welzel. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005. — P. 301–321.
- Сорокин, П. А. Главные тенденции нашего времени / П А. Сорокин. — Москва: Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева ; Казань: Издательствово Казанского Университета, 2015. — 260 с.
- Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. — Москва: АСТ, 1999. — 784 c.
- Фабрикант, М. С. Семейные ценности россиян и европейцев / М. С. Фабрикант, В. С. Магун // Demoscope Weekly. — 2014. — № 613–614. — С. 1–15. EDN: VSDAHF
- Ценности семейно-детного образа жизни (СЕДОЖ‑2019): Аналитический отчёт по результатам межрегионального социолого-демографического исследования / под. ред. А. И. Антонова. — Москва: МАКС Пресс, 2020. — 486 c. DOI: 10.29003/m857.SeDOJ‑2019; EDN: MCNHHW
- Андрюшина, Е. В. Влияние государственной политики на семейные стратегии студенческой молодёжи / Е. В Андрюшина, Е. А. Панова // Ars Administrandi (Искусство управления). — 2019. — Т. 11. — № 2. — С. 200–219. DOI: 10.17072/2218–9173–2019–2–200–219
- Синельников, А. Б. Семейно-демографическая политика и пути повышения ее эффективности / А. Б. Синельников // Социология. — 2022. — № 2. — С. 162–173. EDN: DXTKIA