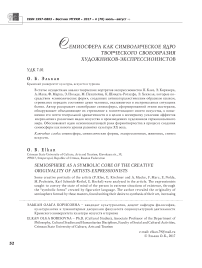Семиосфера как символическое ядро творческого своеобразия художников-экспрессионистов
Автор: Элькан Ольга Борисовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлен анализ творческих портретов экспрессионистов П. Клее, Э. Кирхнера, А. Маке, Ф. Марка, Э. Нольде, М. Пехштейна, К. Шмидта-Ротлуфа, Э. Хеккеля, которые посредством «символических форм», созданных антинатуралистическим образным языком, стремились передать состояние души человека, оказавшегося в экстремальных ситуациях бытия. Автор раскрывает своеобразие семиосферы, сформированной этими мастерами, обнаруживает объединяющее их стремление к «синтетизации» своего искусства, к повышению его почти театральной драматичности и в целом к всемерному усилению эффектов «переклички» различных видов искусства в произведениях художников германоязычного мира. Обосновывает идею основополагающей роли формотворчества в процессе создания семиосферы как нового уровня развития культуры ХХ века.
Семиосфера, символические формы, экспрессионизм, живопись, синтез искусств
Короткий адрес: https://sciup.org/144160718
IDR: 144160718 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Семиосфера как символическое ядро творческого своеобразия художников-экспрессионистов
Первой коллективной манифестацией экспрессионизма в европейском искусстве явилась деятельность объединения немецких художников группы «Мост» ( “Die Brucke” ), возникшего в Дрездене в 1905 году. Наиболее яркими его представителями были, тогда ещё студенты, Э. Л. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуф, Э. Хеккель, которые выступили с требованиями радикального обновления академической системы изобразительного искусства. Лидером группы стал Э. Л. Кирхнер. В своем манифесте молодые художники заявили о стремлении жить и творить вопреки всё ещё благоденствующим старым силам.
Символический мир первого поколения экспрессионистов формировался под влиянием искусства позднего немецкого Средневековья XV – начала XVI века, культовой негритянской пластики; известен их интерес к японской цветной гравюре XVII–XVIII веков, даже к искусству этрусков. Но решающим оказалось воздействие европейского искусства рубежа XIX–XX веков: Ван Гог, Гоген, Сезанн, Мунк. Из современников – живопись и графика Эмиля Нольде (Эмиль Хансен) (1867–1956), датского живописца, графика и скульптора, творческий метод которого отличался необычным пониманием роли цвета в живописи. Как и Э. Мунк, Нольде придавал цвету пси- хологически углубленное и медиативное значение.
Семиосфера творчества Э. Нольде была основана на придании свету значения мистической категории, что обусловило его особое место (единственное) в трактовке любой темы. Э. Нольде пришёл к концепции психологической концентрации цвета и его мистического звучания. Он писал: «Жёлтым можно писать счастье, а также боль. Есть цвет огненно-красный, кроваво-красный, есть просто цвет красной розы … Любой цвет заключает в себе душу и делает мою душу возбужденной, счастливой или поверженной … Если даже воспринимать краски внешне, обращать их в первую суть произведения – это уже будет позиция, музыка, религия, а также форма, игра, духовность [2, с. 15]».
Живописцы «Моста» были поражены пейзажами Нольде, написанными «открытым цветом», пришли в восторг от его «цветовых бурь» («Тропическое солнце», 1914 и другие), экспонировавшихся на выставке в Дрездене. Своеобразие творческого мира Э. Нольде, его семиосфера раскрывались в произведениях на религиозную тематику. С 1908 года по 1912 год художник написал 25 картин этого направления, в том числе «Тайную вечерю», «Троицын день», полиптих «Жизнь Христа» и другие – отказ от традицион- ной иконографии евангельских персонажей, сверхдраматическая трактовка (в первую очередь в экспрессивной светописи) вызвали неоднозначную реакцию в обществе.
Система художественного мышления мастеров «Моста» была основана на радикальном пересмотре сущности пространства в живописи и графике: лишённое визуальной глубины (прямой перспективы), оно намечалось плоскостными «планами», нередко использовались законы обратной перспективы, что создавало условную проекцию реальности, предельно обобщённые формы, почти зашифрованные предметы-«знаки», окружавшие человека. Полностью исключалась формообразующая роль света и светотени, цвет становился чисто духовным компонентом. Все эти приёмы получали экспрессивное воплощение и имели соответствующую силу воздействия. Экспрессивные полотна молодых художников выражали чувства духовного дискомфорта (Кирхнер, Хеккель), мистического транса в момент общения с природой (Нольде, Шмидт-Ротлуф). Творческая манера художника утверждалась спонтанно, как единственно адекватная стихии мироощущения мастера.
Одним из самых ярких представителей «символических форм» стал Эрнст Людвиг Кирхнер (1880–1938), бессменный лидер объединения «Мост». Приведём ещё одно высказывание Кирхнера: «Германец творит свою форму из фантазии, из внутреннего видения, а форма видимой природы для него только символ [7, с. 98]». Таким символическим кодом экспрессии в методе Кирхнера стала трактовка городского пейзажа: улицы, перекрестки, площади, символизиро- вавшие агрессивное окружение человека. Это разверстые воронки, бездушные ленты конвейеров, захлопывающиеся западни («Пять женщин», «Улица», 1913; «Улица с красной кокоткой», 1914; «Потсдамская площадь», 1914 и другие).
Кирхнер первым из мастеров «Моста» воплотил в своём художественном творчестве типично экспрессионистское понимание роли цвета, линии и плоскости в картине, а также убедительно развил идею об их синтетическом единстве: «Благодаря чувственному переживанию интенсивное усиление формы импульсивно переносится на плоскость. Технические средства перспективы становятся средствами композиции [2, с. 28]».
Так художник создавал особый мир, внутренне завершённый и неповторимый, мир символов, отличавшихся многоуров-невостью и многомерностью. Своей образной системой Кирхнер охарактеризовал смысловую глубину символа, никогда не сводимого к определённому значению, но воплощающего множество смысловых перспективных векторов.
Значительный вклад в разработку символической художественной системы экспрессионизма внес Карл Шмидт-Рот-луф (1884–1976). Живописная манера художника отличается экстатическим мо-нументализмом. Цвет достигает жёстких, порой дисгармоничных созвучий и имеет подтекст мистического переживания природы («Дома ночью», 1912; «Русская деревня», 1919; «Сенокос», 1921 и другие). Своё творческое кредо Шмидт-Рот-луф выразил в интервью журналу “Kunst und Kunstler” (1914), отметив, что у него «есть лишь страстное желание постичь то, что я вижу и чувствую, и находить этому как можно более совершенное во- площение», добавим: в символической абстрактной форме [2, с. 58].
Макс Пехштейн (1881–1955), участник объединения «Мост» с 1906 по 1912 год, предпочитал в своём творчестве декоративную выразительность живописи. Воплощая основные особенности экспрессионизма, Пехштейн в то же время был близок к французским фовистам, с которыми его объединяло отношение к жизни, ощущение радости и счастья от общения с искусством. Работы Пехштейна: «Девушка. Сидящая обнаженная», «В волне прибоя» и другие – воплотили символический мир природы и человека в нём, их сущностное внутреннее единство и базирующуюся на этом единстве целостность мира и мировосприятия.
Концепция символических форм, система которых являет семиосферу раннего экспрессионизма, получила своеобразное развитие в 1911–1914 годах в деятельности художников объединения «Синий всадник» (“Der blaue Reiter”), имевшего международный характер. Это общество сформировалось в Мюнхене: в него вошли В. Кандинский (глава), немецкие живописцы Ф. Марк и Г. Мюнтер, австрийский – А. Кубин, к ним присоединились А. Маке, Х. Кампендонк, австриец П. Клее, австрийский композитор и художник А. Шёнберг. На выставках «Синего всадника» представляли свои работы австрийские, немецкие, русские, французские мастера, в том числе К. Малевич, М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Явленский, М. Веревкина, Д. и В. Бурлюки, французы Р. Делоне, Ж. Брак, А. Дерен и другие. В альманахе «Синий всадник» выступили с программными статьями В. Кандинский, Ф. Марк, А. Макке, А. Шёнберг по вопросам Новой художе- ственной формы. Система символических форм была направлена на возрождение концепции немецких романтиков, утверждение неразрывной связи человеческого бытия с законами природы, что оправдывало любой поиск художника как акт, идентичный стихийным прогрессам мироздания [подробнее см.: 5].
Философские обоснования концепции этого направления экспрессионизма – философия Ф. Шеллинга, трактат В. Воррингера, эстетика Р. Вагнера и другие. Основное новаторское решение художников и теоретиков «Синего всадника» – принципиальный отказ от предметности в изобразительном искусстве, что последовательно воплощали В. Кандинский, Ф. Марк, П. Клее.
Трансцендентное и «интегрализи-рующее» звучание цвет получил также в творчестве Франка Марка, соратника В. Кандинского по «Синему всаднику», погибшего под Верденом в Первую мировую войну. Мощным стимулом к его творчеству стало знакомство с художниками «Моста» в Берлине. Полотна Ф. Марка не столь освобождены от признаков реальной действительности, как работы Кандинского, но цветовая насыщенность обусловила мистический характер его творчества («Судьба животных», «Башня синих лошадей», «Восход солнца»). Особенное значение приобретают абстрактные картины мастера: «Борющиеся формы», «Играющие формы», «Разорванные формы», где цвет приобретает трансцендентный характер.
Значительную роль в формировании символических форм картины мира экспрессионизма играет, на наш взгляд, творческая манера швейцарского художника П. Клее, много лет преподававшего вместе с В. Кандинским и В. Гропиусом в Баухаузе.
Пауль Клее (1879–1940) – поразительно одаренная личность: профессиональный музыкант, литератор, театральный критик, страстный путешественник. Но более всего он известен как оригинальный художник, создатель чрезвычайно ёмкого и многоаспектного искусства, связанный с экспрессионизмом, сюрреализмом, дадаизмом, близкий таким выдающимся деятелям культуры XX века, как В. Кандинский, П. Пикассо, Х. Миро, С. Дали и другие. Творчество П. Клее – наиболее показательный пример возможностей экспрессионизма, диапазона его тем и противоречий, столь характерных для драматизма эпохи ХХ века. Отличительной особенностью творческого мира П. Клее явилась внутренняя свобода, неповторимость художественных приёмов, независимость от традиций, сугубо индивидуальная интерпретация сложных драматических, а подчас и трагических явлений современности. Живопись Клее воспринимает как искусство цвета. После поездки в Тунис, пленённый торжеством цвета и света, П. Клее записывает в дневнике: «Цвет владеет мною. Он всегда будет мною владеть. Вот значение этого счастливого часа: я и цвет – одно. Я – художник [3, с. 20]».
Для П. Клее цвет синтезирует и линейный рисунок, и собственно цвет, что найдёт воплощение в его полотнах. На Клее, как и на других новаторов его времени, оказала большое влияние работа В. Воррингера «Абстракция и вчувство-вание». Клее по-своему выразил мысли Воррингера в «Дневниках»: «Вы расстаётесь с реальностью и переходите к тому, что может быть всеобщим. Абстракция.
Прохладный романтизм этого бесстрастного стиля неслышим. Чем ужаснее мир (как сегодня, например), тем более абстрактно наше искусство, тогда как счастливый мир производит искусство из реальности [3, с. 34]».
В работах Клее – сочетание живописного и графического начал, что привело к условности трактовок пространства и времени. Предметная реальность в его творениях трансформируется в чисто графические знаки – элементы, обыденные вещи превращаются в «идеи», то тяготеющие друг к другу, то разобщённые. Клее создаёт в своих работах особую «реальность», можно сказать – «виртуальную», прошедшую через горнило его творческого процесса. Нередко она упрощена до схемы «детского рисунка». Линия, контур играют здесь особую роль. Выступая с докладом на собственной выставке в Йене (1924), П. Клее так охарактеризовал своеобразие своего творческого почерка: «Разговоры об инфантилизме моего рисунка имеют, очевидно, своей исходной точкой те линеарные образования, в которых я пытался связать предметное представление – скажем, человека – с чистым изображением линеарного элемента. Если бы я хотел дать человека таким, “как он есть”, то для воплощения этого потребовалось бы столь путаное взаимопереплетение линий, что … получилось бы нечто мутное, граничащее с полной неразберихой [2, с. 276]».
В рассуждениях о специфике своего метода П. Клее формулирует своё кредо: «Элементы должны складываться в формы, не жертвуя при этом собой. Сохраняя самих себя». В. Хофман комментирует это высказывание П. Клее совершенно в духе системного подхода: «Предметы уже потенциально содержаться в формах и в их элементах, и различение непосредственно проистекает из них [4, с. 441]». П. Клее не стремится пожертвовать содержанием ради формы или формой ради содержания. Он рассматривает искусство как расширение опыта и свидетельствует, что форма обладает собственной ценностью, равнозначной ценности предмета; в то же время Клее утверждает, что в формальной фигуре заключается возможность «предметного толкования». В связи с этим Клее как бы «пронизывает» формы содержанием, извлекая знаки для рыбы, птицы, корабля, человека непосредственно из формы. Таким образом, не ограничивая свободы формообразования, он представляет содержательное начало в ней в бесконечном многообразии.
«Формотворчество» П. Клее играет роль «сотворения мира» – мира, созданного художником. Стремясь к гармонии этого мира, замечает П. Клее, при помощи формотворчества он идёт от хаоса к упорядоченному космосу. Приведём высказывание самого Клее, а затем прокомментируем:
«Я логическим образом начинаю с хаоса, это самое естественное. При этом я спокоен, поскольку поначалу я сам могу быть хаосом.
Хаос есть неупорядоченное состояние вещей, их беспорядочность. С точки зрения “сотворения мира” (космогенетически) – мифическое прасостояние мира, из которого лишь постепенно или вдруг, из себя самого или волей творца, образуется упорядоченный космос [4, с. 444–445]».
Хаос и порядок. То есть в начале ХХ века художник, музыкант, литератор Пауль Клее обладал «синергетическим мировидением», как мы сегодня это квалифицируем. Действительно, эти мысли Клее поразительно укладываются в определение процессов, изучаемых синергетикой: это «процессы перехода от хаоса к порядку и обратно… в открытых нелинейных средах самой различной природы [1, с. 64]».
П. Клее, открывший зону бесформенности, «неупорядоченного состояния вещей», пытается перейти к состоянию упорядоченного космоса, считая основою этого движения процессы формотворчества. В. Хофман делает вывод: «Принимая “форму как генезис”, он подвергает сомнению и получает тем самым право проникнуть в пространство, не требующее эмпирического подтверждения, и определяет его в форме [4, с. 447]».
Таким образом, творческая деятельность, считает П. Клее, находится в согласии с законами космоса, дающими ей право на свободное развитие.
Одним из ярких примеров воплощения своеобразия символических форм Клее является его картина «С соколом». Изображен пейзаж – маленькие, по-детски нарисованные деревья, дома и животные: всё это напоминает волшебную сказку. Преобладают оттенки красного цвета. В центре картины – огромный глаз, над которым на большой арке балансирует крошечный сокол с распущенными крыльями, как бы взлетающий над пейзажем и смотрящий этим глазом. Один из интерпретаторов увидел в этом соколе «аллегорию Клее, художника, парящего над руинами войны [8, p. 63]».
Ещё более выразителен символический мир картины П. Клее «Бунт виадуков». Это историческая картина политического содержания, исполненная духа протеста против нацизма (обратим внимание на год создания – 1937). Маленькая вертикальная работа имеет монохромный синий фон, который местами переходит в розовато-лиловый. На этом фоне изображены арки моста (виадуки), различные по цвету и величине. Они как бы «шагают на зрителя», но не маршируют стройными рядами, как армия вермахта, а надвигаются беспорядочной толпой. Впечатление усиливает многообразие красок и размеров. Многие исследовате- ли увидели в этом демонстрацию угрозы, исходящей от «тоталитарного массового движения» [3, с. 92]. П. Клее создал пять вариаций этой работы. Предпоследнюю художник назвал: «Арки моста выходят из строя», то есть создал впечатление отвергнутого порядка. И действительно, арки моста отказываются быть только звеном в цепи, каждая хочет проявлять себя по-своему, отказывается идти единым строем. Так символически художник выразил свой протест против нациз- ма, стремившегося подавить и в художественном творчестве всё индивидуальное, подчинить своим целям.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
-
• творческие портреты экспрессионистов позволяют раскрыть своеобразие семиосферы, сформированной этими мастерами искусства германоязычного мира;
-
• символический мир первого поколения экспрессионистов формировался как под влиянием позднего немецкого Средневековья, так и европейского искусства рубежа ХІХ–ХХ веков;
-
• семиосфера как континуум символических форм раскрывает свою духов-
- но-экстатическую природу в творчестве Э. Нольде, деятелей «Моста» и «Синего всадника» – Э. Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидта-Ротлуфа, М. Пехштейна, Ф. Марка и других;
-
• значительную роль в формировании символических форм картины мира экспрессионизма сыграло творчество П. Клее, важнейшим теоретическим принципом признававшего – переход к тому, что может быть всеобщим;
-
• в целом теоретическое обоснование
концепции экспрессионистов нашли в «синтез-ориентированных» концепциях – в философии Ф. Шеллинга, антропософии Р. Штайнера, эстетике Р. Вагнера [6], трактатах В. Воррингера, В. Кандинского.
Список литературы Семиосфера как символическое ядро творческого своеобразия художников-экспрессионистов
- Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основание синергетики. Синергетическое мировидение. Москва: КомКнига, 2005. 240 с.
- Маркин Ю.П. Экспрессионисты. Живопись. Графика. Москва: АСТ Астрель, 2004. 369 с.
- Парч С. Пауль Клее, 1879-1940 / [пер. с англ. О.Л. Карловой]. Москва: АРТ-РОДНИК: Taschen, 2004. 96 с.
- Хофман В. Основы современного искусства: введение в его символические формы / [пер. с нем. А. Белобратова]; Петербургский фонд культуры и искусства «Институт ПРО АРТЕ». Санкт-Петербург: Академический проект, 2004. 560 с.
- Элькан О.Б. Символический характер художественного творчества и проблема духовности (Э. Кассирер, В. Кандинский) // Культура народов Причерноморья. 2009. № 154. С. 92-95.
- Элькан О.Б. Музыкальные источники «Доктора Фаустуса» Т. Манна: Р. Вагнер как прототип Леверкюна // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 2 (70). С. 113-119.
- Энциклопедический словарь экспрессионизма / Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького; [гл. ред. П.М. Топер]. Москва: ИМЛИ РАН, 2008. 736 с.
- Werckmeister O.K. Versuche über Paul Klee. Frankfurt-Main: Syndikat, 1981. 218 s.