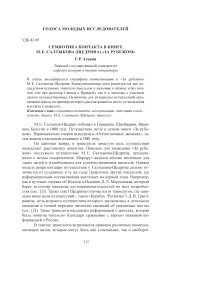Семиотика контакта в книге М.Е. Салтыкова (Щедрина) «За рубежом»
Автор: Атаянц Гаяне Рафаеловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется специфика коммуникации в «За рубежом» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Коммуникативные акты реализуются как посредством вставных эпизодов (пьеса-сон о мальчике в штанах и без штанов, сон про разговор Свиньи с Правдой), так и в эпизодах с участием самого путешественника. Нетипична для литературы путешествий организация текста, на примере которого рассматривается место установления контакта в травелоге.
Семиотика контакта, коммуникация, оппозиция "свой -чужой", диалог, м.е. салтыков (щедрин), травелог
Короткий адрес: https://sciup.org/146281564
IDR: 146281564 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Семиотика контакта в книге М.Е. Салтыкова (Щедрина) «За рубежом»
М. Е. Салтыков-Щедрин побывал в Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии в 1880 году. Путешествие легло в основу книги «За рубежом». Первоначально очерки выходили в «Отечественных записках», затем вышли отдельным изданием в 1881 году.
По канонам жанра, в травелогах зачастую цель путешествия определяет расстановку акцентов. Поводом для написания «За рубежом» послужило путешествие М. Е. Салтыкова-Щедрина, предпринятое с целью оздоровления. Маршрут являлся вполне типичным для таких целей и излюбленным для соотечественников писателя. Однако модель репрезентации путешествия у Салтыкова-Щедрина сильно отличается от созданных в те же годы травелогов других писателей, где информационная составляющая выступает на первый план. Например, как в путевых очерках об Италии и Испании Д. Л. Мордовцева, который берет за основу описание достопримечательностей во всех подробностях (см.: [1]). Также текст Щедрина отличается от травелогов, где заявлены иные цели путешествий – таков «Корабль “Ретвизан”» Д. В. Григоровича, цель морского путешествия которого заключалась в детальном описании и точной передаче читателю сведений об увиденных местах (см.: [2]). Такие травелоги насыщены информацией о жителях, которая была понятна читателю благодаря сравнению с хорошо знакомой информацией о России.
В текстах травелогов встречаются примеры различных коммуникативных актов, которые могут быть как успешными, так и наоборот.
Под коммуникацией вслед за Лотманом мы понимаем модель общения, где «заложено предположение об исходной неидентичности говорящего и слушающего. В этих условиях нормальной становится ситуация пересечения языкового пространства говорящего и слушающего. В ситуации непересечения общение предполагается невозможным, полное пересечение (идентичность А и В ) делает общение бессодержательным» [4, с. 14]. В книге «За рубежом» фокус сосредоточен на бытии человека в культурно-историческом срезе, преимущественно русского человека в современных для автора реалиях. В связи с этим контакт в системе организации текста подчеркивает философские и политические воззрения автора, адресатом в коммуникативном акте выступает читатель, а не иной герой.
У М. Е. Салтыкова-Щедрина описание «чужого» выступает как искаженное зеркало «своего» и наоборот. Е. Р. Пономарев называет «За рубежом» разрушением канона путевого очерка, как и в случае с «Зимними заметками о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского, «антитравело-гом» и «антипутеводителем»: «Щедрин по-новому формулирует задачу антитравелога: изучение себя по отличиям от другого…» [6, с. 65].
Диалогов рассказчика-путешественника с иностранцами немного. Сложно назвать такие акты содержательной беседой, скорее – непродолжительным обменом репликами. Однако контакт является важным элементом в цепочке размышлений путешественника о судьбе родной страны. Например, в эпизоде, где рассказчику снится разговор Свиньи с Правдой, хозяйка объясняет возможные причины возникновения такого сна. Диалог с хозяйкой еще больше акцентирует важность разговора Свиньи с Правдой и является эпизодической, но вполне емкой расшифровкой. Здесь же есть важное противопоставление «мы» и «они»: «Тем не менее она ужасно изумилась, когда я, в свою очередь, объяснил ей, что нам видятся во сне совершенно различные свиньи: ей – такие, которых люди едят, а мне – такие, которые сами людей едят» [7, с. 202].
Интересно разворачивается дихотомия «свой – чужой». По теории Лотмана, «Одним из основных механизмов семиотической индивидуальности является граница. <…> Это пространство определяется как “наше”, “свое”, “культурное”, “безопасное”, “гармонически организованное” и т. д. Ему противостоит “их-пространство”, “чужое”, “враждебное”, “опасное”, “хаотическое”. Всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее (“свое”) пространство и внешнее (“их”)» [3, с. 175]. В случае со сном «чужое пространство» оказывается «небезопасным», «враждебным», не потому, что оно не знакомо, а потому, что отсылает с уже знакомому, но не являющемуся «гармоничным» и «безопасным». Хозяйка подчеркивает: «…русские, действительно, довольно часто жалуются, что их посещают видения в этом роде…» [7, с. 202]. То есть фор- мальное разделение на «мы» и «они» есть, а границы пространственные стерты.
Данную главу Салтыков Щедрин писал после возращения в Россию, в связи с чем Д. Оффорд отмечает, что «именно в домашнем климате Салтыков-Щедрин написал книгу “За рубежом”, произведение, омраченное чувством уныния, которое проистекает не только из-за личностных переживаний автора, но также из-за утраты национальной самооценки в постреформенный период и чувства надвигающегося кризиса» [8, с. 228]. Это особенно ярко отражено в следующем диалоге:
«– Дóма-то нас выворачивают-выворачивают – всё стараются, как бы лучше вышло. Выворотят наизнанку – нехорошо; налицо выворотят – еще хуже. Выворачивают да приговаривают: паче всего, вы не сомневайтесь! Ну, мы и не сомневаемся, а только всеминутно готовимся: вот сейчас опять выворачивать начнут!
– Но ведь, приехавши за границу, mon cher monsieur…
– И за границей тоже. Как набоишься дóма, так и за границей небо с овчинку кажется. В ресторан придешь – гарсона боишься: какое вы, скажет, имели право меня не дельными заказами беспокоить? В музей придешь – думаешь: а чтó, если я ничего не смыслю? <…> Взвесьте-ка все это, да и спросите себя по совести: можем ли мы другие сны видеть, кроме самых, что называется, экстренных?» [7, с. 203].
Данный диалог содержит асимметрию, выражающуюся «в различии семиотической структуры (языка) участников диалога и, во-вторых, в попеременной направленности сообщений» [3, с. 193]. Однако «для возможности диалога необходимо еще одно условие: взаимная заинтересованность участников ситуации в сообщении и способность преодолеть неизбежные семиотические барьеры» [Там же]. В данном диалоге позиции «передачи» и «приема» не нарушены формально. Однако комментарии хозяйки неважны для рассказчика. Они выступают в качестве элементов, разделяющих монолог на логические реплики, конкретизирующие диалог Свиньи с Правдой. Например, такие высказывания Свиньи: «А по-моему, так и без того у нас свободы по горло» [7, с. 200]; «Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать, по-тому-де что, в противном случае, человеческое общество превратится в хаотический сброд враждующих элементов» [Там же, с. 201] – становятся более конкретными и реалистичными.
Посещение «зарубежья» позволяет характеризовать соотечественников, что тоже является развитием традиционной темы травелога. Нельзя не обратить внимания на драматизм положения русского человека и необходимости перемен в России: «Нужно ли, чтобы Колупаев бессрочно оставался владыкою дум “обеспеченных”? Ежели нужно, то не сетуйте на абсентеизм, и пускай страна грубеет, а абориген ее пусть дичает. Если же это нежелательно, то пускай деревня освежится приливом новых, разумных сил, и пускай эти силы не встречаются с первых же шагов с выворачиванием рук и сажанием в “холодную”» [Там же, с. 46]. Путешествие выступает обрамлением и поводом высказаться о России. Как отмечает С. А. Макашин, «За рубежом» – «книга не только о Западе, но о России и Западе и, по существу, о России больше, чем о Западе. <…> Обращение в “За рубежом” к явлениям и фактам западноевропейской жизни и осмысление их в связи с русской действительностью дало писателю возможность еще глубже проникнуть внутрь социально-политического организма своей страны и народа» [5, с. 529]. В связи с этим контакт приобретает нетипичную для травелога форму.
Интересно рассмотреть в данном контексте включенную в книгу пьесу «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Изначально с «мальчиком в штанах», который символизирует Германию, беседует путешественник. Здесь читатель уже видит разнородность культур и традиций. Затем появляется «мальчик без штанов» из «обыкновенной русской лужи» [7, с. 32]. Собеседники разговаривают как взрослые, нет языкового барьера, говорящий и слушающий попеременно обмениваются репликами. Но выработки общего языка, когда «каждый из участников ситуации стремится перейти на “чужой язык”», не происходит [3, с. 194]. То есть формально языковое пространство говорящего и слушающего пересекается, но нет «стремления к облегчению понимания, которое будет постоянно пытаться расширить область пересечения, и стремление к увеличению ценности сообщения, что связано с тенденцией максимально увеличить различие между А и В » [4, с. 14]. Различные этапы исторического развития и культуры, несхожие ценности, сложности в расшифровке концептов, отличающиеся поведенческие механизмы не позволяют расширить область пересечения.
Помимо прямых указаний на непонимание («хочет (пытается) понять, но не может» – повторяется три раза), изумление «мальчика в штанах» подчеркнуто ремарками об эмоциональном состоянии: «конфузясь и краснея в сторону», «настойчиво», «испуганно», «в ужасе», «плачет», «тронутый», «изумленно», «пугаясь» и т. д. [7, с. 33–37]. Контакт является вымышленным и позволяет еще раз акцентировать внимание на важных для автора деталях: «У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! [Там же, с. 36], «У нас дворянам работать не полагается» [Там же, с. 39] и т. д. Но для читателя такой диалог становится «взрывом», в момент которого открываются новые смыслы. С. А. Макашин отмечает: «Диалог двух мальчиков и диалог “свиньи” с “правдой” являются двумя кульминациями в “За рубежом”. В них отразились “апогей” и “перигей” общественных настроений, в которых создавалось произведение» [5, с. 548].
Исследователь литературы путешествий Д. Оффорд рассматривает «За рубежом» без отрыва от политического контекста, обращая внимание, по какому пути развития пошли Пруссия, Франция и Россия ввиду политических потрясений и исторических событий. Именно эти различия и определяют пафос повествования (например, короткий разговор с немецким солдатом, начинающим говорить по-русски [7, с. 48], который становится исходной точкой для характеристики истории Пруссии).
Беседы с соотечественниками оказываются более развернутыми, к тому же: «В особенности слаще естся и пьется, живее чувствуются всякие скульптурности – в обществе соотечественников» [7, с. 161]. Диалоги с Дыбой и Удавом, несмотря на комичность и расхожие с рассказчиком взгляды, складываются. Однако: «Слушать разглагольствия Удава и Дыбы и не чувствовать при этом глубочайшей тоски можно только под условием несомненного нравственного разложения. Ничему подобному западный человек не подвергается. <…> Мы обязаны выслушивать сквернословие и считаться с ним» [Там же, с. 83]. Во-первых, Дыба и Удав являются яркими представителями той среды, которую описывает Щедрин, и буквально на практике подтверждают сказанное. Во-вторых, несмотря приземленность их суждений, они оказываются в одном семантическом поле с путешественником. Ближе к концу путешествия мы узнаем: «С каким бы удовольствием я побеседовал теперь с Удавом! с каким наслаждением выслушал бы бесконечные рассказы Дыбы… <…> По крайней мере, в этих собеседованиях я мог бы уловить образ, слово…» [Там же, с. 240]. В-третьих, такие образы становятся инструментом более глубокого сравнительного анализа характера русских и иностранцев, как и в случае коммуникации с компанией соотечественников во Франции. Живость разговора и непринужденность тем становятся поводом для рассуждений о том, каков же русский человек. Зачастую описания характерных черт русских не лишены иронии. Например: «Ошибочно утверждают, будто бы на родине предоставлено молчать», а наоборот, «в целом мире не найдется людей столь сообщительных, как русские», при этом: «Не молчать предоставляется нам, а только говорить пустяки – вот в чем состоит наша внутренняя политика» [Там же, с. 162]. В таком же духе Салтыков-Щедрин высказывается о праздности «русского скитальца» [Там же, с. 163], о сквернословии («Мы, русские, никаких уполномочий не имеем и потому заменяем их сквернословием» [Там же, с. 164]), о любви к Родине: «…средний русский «скиталец» не только страстно любит Россию, а положительно носит ее с собою везде, куда бы ни забросила его капризом судьба. Везде он чувствует себя в каком-то необычном положении, везде он недоумевает, куда ж это ежовые-то рукавицы девались?» [Там же, с. 165]. И это тоже в свою оче- редь дополняет и расширяет понятийную картину читателя. Несмотря на смущение всей компании, вызванное поведением Блохина, именно коммуникация с соотечественниками проявляет чувства рассказчика: «Тоска настигла меня немедленно, как только Блохины и Старосмысло-вы оставили Париж» [Там же, с. 193].
Контакт в книге «За рубежом» в большинстве случаев служит формальным рупором для более наглядного и красочного выражения важных автору идей. Таким образом, цель литературного путешествия не всегда связана с установлением контакта или даже его описанием. В данном контексте «коммуникативный тупик» служит раскрытию дополненных смыслов для читателя. Ценным оказывается не диалог как таковой для его участников, а диалог с читателем. Говорящий и слушающий обмениваются информацией, и плоскости их существования пересекаются, но того, что Ю. М. Лотман называл «напряжением», «силовым сопротивлением, которое пространства A и B оказывают друг другу» [4, с. 14], того, что делает диалог ценным для его участников, нет. Однако «непересека-ющаяся часть» [Там же, с. 15] дает читателю новые смыслы и толкования реалий, значимых для путешественника.
Об авторе:
Список литературы Семиотика контакта в книге М.Е. Салтыкова (Щедрина) «За рубежом»
- Атаянц Г. Р. Мгновение контакта в путевых очерках Д. Л. Мордовцева // Мгновение как сюжет: Статьи и материалы. Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2017. С. 165-171.
- Атаянц Г. Р. Особенности восприятия "чужого пространства" в морском путешествии Д.В. Григоровича // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 193-197.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 272 с.
- Макашин С. А. За рубежом // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: в 20 т. Т. 14. М.: Худож. лит., 1972. С. 527-555.
- Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: "путешествие на Запад" в литературе межвоенного периода / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. СПб., 2013. 412 с.
- Салтыков-Щедрин М.Е. За рубежом // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: в 20 т. Т. 14. М.: Худож. лит., 1972. С. 7-246.
- Offord D. Journeys to a Graveyard. Perceptions of Europe in classical Russian travel writing. Netherlands: Springer, 2005. 287 p.