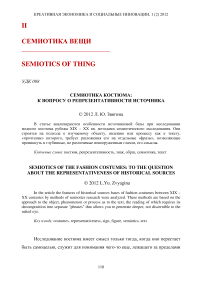Семиотика костюма: к вопросу о репрезентативности источника
Автор: Звягина Людмила Юрьевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Семиотика вещи
Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности источниковой базы при исследовании модного костюма рубежа XIX - XX вв. методами семиотического исследования. Они строятся на подходе к изучаемому объекту, явлению или процессу как к тексту, «прочтение» которого, требует разложения его на отдельные «фразы», позволяющее проникнуть в глубинные, не различимые невооруженным глазом, его смыслы.
Костюм, репрезентативность, знак, образ, семиотика, текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14238901
IDR: 14238901 | УДК: 008
Текст научной статьи Семиотика костюма: к вопросу о репрезентативности источника
Исследование костюма имеет смысл только тогда, когда оно перестает быть самоцелью, служит для понимания чего-то еще, лежащего за пределами его внешней составляющей – людей, их настроений и взглядов, самой эпохи, наконец. Наиболее близки к такому взгляду исследования по семиотике.
Вещь в семиотике определяется как своеобразный посредник между человеком и действием. Она обладает смыслом, который не покрывается лишь ее применением. «Практически никогда не бывает вещей, которые бы не служили ни для чего… (курсив авторский – Л. З.)», – писал Р. Барт [3, с. 418]. Любая форма деятельности людей в обществе – будь то общение на вербальном языке, создание и воспроизведение произведений искусства, религиозные обряды и магические ритуалы, формы социальной жизни и повседневного поведения, игры и моды в том числе, – воспринимается, таким образом, как «текст» [14, с. 287], культурные значения которого выражаются с помощью символов или «знаков». С этой точки зрения в качестве «знака» могут выступать любые вещи и их признаки [20, с. 20]. Идея использования семиотики для исследования костюма родилась почти одновременно с самой семиотикой. Наиболее ранним исследованием такого рода является работа П. Г. Богатырева, который, используя методы семиотического анализа, рассматривал традиционный костюм Моравской Словакии [7]. Воспринимая костюмный комплекс как текст, с определенным, сознательно заданным его носителем смыслом (то есть, по терминологии Барта, как «означающее»), он изучает не внешнюю его форму, а сам этот смысл (то есть «означаемое») и обусловившую его культурную традицию. Понимая под функцией костюма ту смысловую нагрузку, которую он несет, Богатырев ставит задачей своего исследования изучение не самого костюма, а именно этих, выраженных костюмом, смыслов. Интересное и широкомасштабное исследование женской моды осуществил в начале 1960-х гг. Р. Барт. Используя в качестве источника несколько наиболее популярных модных журналов за 1958 и 1959 гг., он исследовал не столько саму моду, сколько ее словесное выражение, то, что он назвал «модой-описанием», сознательно отказываясь ради «реконструкции формальной системы» от описания конкретной моды
[4, с. 44]. Через рассмотрение отдельных элементов костюма, воспринимаемых как смысловые коды, Барт предпринял попытку воспроизвести идеальный образ модной женщины своего времени, который он понимал не только в плане внешнего вида, но гораздо шире – как комплекс представлений о мире, о своей роли в нем, о «правильном» и «неправильном» поведении. При этом Барт признавал, что исследует не «реальную» женщину, а скорее формируемый журналом ее образ, отмечая, что это «одновременно и сама читательница, и то, какой она мечтает быть» [4, с. 295].
При всем отличии объекта изучения, предопределившем и различие источниковой базы (у Богатырева это реально существовавший традиционный костюм, фиксируемый на основании устных данных и артефактов, у Барта – «виртуальный», предлагаемый журналами модный костюм), указанные работы характеризуются общей целью и методикой исследования. И в том и в другом случае костюм выступает как текст, для изучения которого необходимо рассмотрение его по отдельным «фразам», «словам», иначе говоря – деталям. Принцип семиотического анализа, применимый для работы, как с описанием, так и с вещью (или ее изображением), позволил авторам максимально абстрагироваться от восприятия костюма как явления, выйти на понимание ментальности его носителей.
Выбор автором статьи семиотического подхода в качестве методологической базы своих исследований был обусловлен стремлением отойти от субъективности свойственной работам с использованием такого описания костюмов, которое основано на интуитивном определении исследователем его основных элементов. Высокая степень авторского присутствия, свойственная трудам по истории костюма, объясняется, с одной стороны, их преимущественным искусствоведческим характером, при котором авторский вкус, чувство прекрасного и представление о гармонии являются необходимым условием исследования, а с другой, – системой применяемых методов, основанных, по большей части, на восприятии костюма в его целостности. Традиционная методика изучения модного костюма заключается, как правило, в сборе информации о разнообразных элементах костюма исследуемой эпохи и соединении их в единое целое, которое становится как бы идеальным конструктом костюма данного времени. Каждое реальное платье воспринимается как, в большей или меньшей степени, похожее на этот конструкт. Эта методика имеет один существенный недостаток – высокую степень субъективности. Выбор вносимых в конструкт «костюма эпохи» элементов осуществляется автором интуитивно, так же как и определение степени значительности и незначительности каждого из них. Таким образом, составленная идеальная модель костюма у каждого автора в большей или меньшей степени отличается друг от друга. Одни при описании модного платья отдают предпочтение силуэту, другие – крою, третьи – деталям [36, с. 317] Как правило, априорное внимание к той или иной стороне изучаемого явления напрямую связано с выбором источниковой базы и тем объемом информации, которую она может дать. Обращение авторов последних десятилетий преимущественно к письменным источникам приводит к исследованию не столько самого костюма, сколько манеры его ношения, степени удобства, «приличности» и «красивости» с точки зрения современников. Эти данные, при всей их важности, дают представление не о реальном костюме, а о субъективном мнении о нем его «носителей». Соединение же сведений письменных источников с изображениями в журналах мод часто носит несколько механический характер. Слияние «виртуального» (т.е. предлагаемого модными журналами) и реального костюма воспринимается исследователями не только как вполне возможное, но и как необходимое условие познания исторического костюма.
Семиотический подход дает возможность снизить степень субъективности исследования. Пристальное внимание ко всем без исключения «деталям» позволяет отойти от понимания отдельных костюмов эпохи как «в принципе одинаковых», выделить их общие и особенные черты, подверженные моде и не зависящие от нее элементы, а в результате и «прочитать» смысл этих зависимостей.
Одним из условий перевода костюма в «текст» является сознательный отказ от формирования гипотезы исследования. Любая гипотеза строится на некоем объеме научного знания, формируемом предшественниками, и уже вследствие этого предопределяет вектор исследования, заставляет обращать внимание на определенные аспекты изучаемого явления, игнорируя другие, быть может, не менее значимые. Процесс же «чтения» предполагает восприятие изучаемого явления как целостного и непознанного. Каждая его деталь значима. Она пристально рассматривается как возможный носитель информации, вне зависимости от предписываемой ей нами степени важности. Отказ от гипотезы позволяет избежать предварительной оценки явления, выделения его существенных и не существенных свойств, позволяет выделить широкий диапазон исследовательских проблем, диктуемых самим источником.
Для исследования реального (то есть материального) костюма рубежа XIX – XX вв. наиболее информативным видом источников является источники изобразительные: фотопортреты и изображения в журналах мод, для уточнения данных которых могут быть использованы тексты журналов мод, воспоминания современников и вещественные источники. Такой выбор источниковой базы семиотического исследования костюма требует объяснений.
Акцентирование внимания на одном типе источников неизбежно приводит к снижению адекватности полученных в ходе исследования данных, дает возможность увидеть лишь некоторые стороны изучаемого явления. Рассматривая в качестве основного источника фотографии, мы неизбежно теряем информацию о таких важных характеристиках костюма, как название его основных частей, их крой, структура и качество ткани, из которой они выполнены, а зачастую жертвуем и целостным восприятием костюма, так как нам доступна только его видимая на фотографии часть. Для того чтобы смириться с такими информационными потерями, необходимо признать за фотографией возможность получения с ее помощью более важных для исследователя данных.
Наиболее значимая задача при изучении костюма рубежа XIX – XX вв. заключается в попытке уловить разницу между реальным костюмом, носимым людьми, и «виртуальным», изображаемым журналами мод; понять, отличается ли один от другого и, если различие будет зафиксировано, то в чем именно оно состоит.
При огромном количестве фотографий XIX, а особенно начала XX в., которое сохранилось до наших дней, литературы, которая бы анализировала изображенный на них костюм, сегодня практически нет. Единственной попыткой изучения костюма с помощью фотографии является исследование Т. Ю. Адуковой, представленное ей в виде доклада на конференции в 1993 г. Изучая городской костюм Челябинска рубежа XIX – XX вв., она привлекает вещественные (одежда из фондов Челябинского областного краеведческого музея), письменные (дела об опеке) и устные (данные информантов) источники, но констатирует, что одним из основных источников при изучении одежды является фотография [1, с. 81]. Анализируя фотоматериалы из фондов музея и частных архивов, автор фиксирует существование «общеевропейского» костюма в Челябинске рубежа веков, выделяет его варианты для разных социальных групп (местной аристократии, мещанства, рабочих и прислуги). Однако отсутствие детального анализа изображенных на фотографиях костюмов не позволило автору пойти далее простой констатации наличия европейского платья в жизни челябинцев конца XIX –
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 начала XX вв. и общего вывода о то, что оно «соответствует общеевропейской моде тех лет» [1, с. 85]. К сожалению, не является исключением из общего правила и труд А. А. Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях» – обширное издание представляет собой публикацию российских и европейских фотографий втор. пол. XIX – начала XX вв., но в текстовой части опирается исключительно на письменные источники (тексты журналов мод, воспоминания современников и т.п.) [10].
Сравнение реального и «виртуального» костюмов возможно лишь при применении единой методики их реконструкции, однако источниковая база их изучения различна. Реконструировать модный костюм можно лишь с опорой на иллюстрации и тексты журналов мод. В зависимости от журнала (а в какой-то мере и от времени его издания) сочетание его текстовой и иллюстративной части может быть различным. Одни журналы предпочитают давать весьма подробное описание модных новинок, сопровождая их одной или двумя иллюстрациями [32], другие, напротив, среди нескольких десятков представленных фигур размещают лишь небольшую статью, отвлеченно повествующую об изменчивости моды [29, 31]. Однако, вне зависимости от того, сколько места уделено текстовой части, основной информационный блок приходится именно на иллюстрацию: на ней представлен общий вид модного костюма в единстве всех его элементов (силуэта, кроя, отделки). Текст же зачастую заостряет внимание читателей лишь на отдельных, наиболее модных («Юбка, конечно, короткая, само собой разумеется, круглая» [12, с. 29]) или, напротив, только что вышедших из моды («Корсажей-кирас совсем не видно» [30, с. 6]) деталях костюма, игнорируя все те его элементы, которые носятся достаточно давно, но еще не успели «устареть» [4, с. 46]. Вместе с тем, текст журнала мод более, чем все прочие письменные источники, лишен субъективности. Несмотря на то, что статьи о моде, особенно авторские, имеют зачастую ярко выраженную эмоциональную окраску и отражают мнение автора о степени красоты новой моды («Такой фасон для девушки не изящен» [27, с. 31]) или «приличности» ее, они всегда, в большей или меньшей степени, опираются на представленную иллюстрацию. Текст журнала апеллирует к рисункам моделей, часто описывает их, восполняя не переданные детали (ткань, цвет), уточняет или поясняет. Так, в журнале «Весь мир» за февраль 1911 г. на страницах, посвященных моде, были представлены как новое веяние юбки-шаровары. Анализ новинки появился в следующем месяце в статье Л. Васильевой «Молодая девушка», предостерегавшей, что «предполагать, что эта оригинальная мода пользуется большим распространением», будет ошибкой и поясняющей, что новинку используют лишь для появления на «небольших интимных вечерах»[11].
Журнал мод предстает, таким образом, неким идеальным синтезом источников двух типов: иллюстрации, дающей максимально полный объем знаний по внешнему виду костюма, и текста, расширяющего ее информационное поле за счет дополнительного описания наиболее модных элементов и определения степени их распространения.
Реконструировать с такой степенью точности реальный костюм практически невозможно. Представление одного и того же костюма в двух источниках (на фотографии и в нарративе) является фактом чрезвычайно редким и относится, как правило, к жизни высшей аристократии. Вероятность сохранения мемуаров (дневников) и атрибутированных фотографий представителей этого слоя общества гораздо выше, чем всякого другого. Мы имеем возможность получить почти полное представление о свадебном наряде великой княжны Марии Николаевны, подробно описанном ею в воспоминаниях и запечатленном на нескольких фотопортретах, или о ее же девической прическе [13, с. 71]. Однако соотношение изображения костюма и его описания в мемуарах представительницы не столь высокопоставленной семьи представляется маловероятным.
Таким образом, конкретный костюм оказывается запечатлен лишь единожды, в источнике какого-либо одного типа, и при попытках его реконструкции исследователю приходится ограничиваться лишь этими данными. Между тем, информация, которую несут в себе источники нарративного происхождения, и фотографии, принципиально различна.
Письменный источник фиксирует, как правило, лишь тот костюм, который чем-то привлекает внимание автора. Это может быть его собственная одежда, которую он сохранил в памяти (желает сохранить, если речь идет о дневниковых записях), или костюм других людей – друзей, родственников, знакомых, высокопоставленных и привлекающих внимание особ. Как правило, описываемый костюм связан с каким-то важным для автора событием – свадьбой, представлением ко Двору, важным визитом, балом (особенно первым), появлением в новом обществе и т.д. В зависимости от авторского стиля запомнившийся костюм описывается с большей или меньшей степенью подробности. Так, Е. П. Янькова проговаривает все детали платьев для первого бала своих дочерей [33, с. 223], а Е. Л. Камаровская, вспоминая о своем наряде по такому же поводу, ограничивается описанием платья как «легкого», «белого», «с цветами на корсаже» [22, с. 40].
Повседневный наряд, сшитый не «для случая», встречается в дневниковых записях и письмах. Однако это всегда некое достопримечательное платье, чем-то отличающееся, привлекшее внимание автора особой красотой, элегантностью, богатством. Оно, как правило, не столько описывается, сколько упоминается («на мне был очень красивый черный туалет» [35, с.305]; «мое платье «Agrippine» имеет большой успех» [5, с.198]; «какая прелесть серое платье с мехом» [21, с.149]), что естественно для дневниковх записей, так как они повествуют о современном, знакомом костюме, в котором важно упомянуть лишь значимые стороны.
Для письменных источников характерна концентрация внимания лишь на явления, выделяющиеся из обыденной жизни. Все то, что относится к сфере привычного, повседневного существования, не замечается людьми и не находит своего отражения в их воспоминаниях. Особенно это относиться к мужскому костюму: в письменных источниках он упоминается чрезвычайно редко, а если и встречается, то не в виде описания (как женский), а в виде простого перечисления отдельных вещей и, изредка, их цветовой гаммы [5, с.71, 169, 195, 247; 19, с.19, 174, 294, 325].
В письменных источниках редко можно найти упоминания о модных новинках, не имеющих особой значимости (сезонных изменениях покроя воротничков, рукавов, юбок), однако все «странные» и эпатирующие публику новости моды попадают на страницы воспоминаний почти в обязательном порядке. Шокирующие дамские моды Французской революции [26, с.114, 167; 33, с.255], вызывающая элегантность костюма денди (например, указатель источников в кн.: Вайнштейн О. [9, с.610-615]), рассчитанный эпатаж славянофилов [18, с.71; 28, с.400] и символистов (см., например, источники, используемые в статье Ю.Димиденко [17, с.50-63]) запечатлены во множестве нарративных источников.
Костюм, представленный на фотографии, имеет чаще всего обыденный, каждодневный характер. Это визитное, домашнее или прогулочное платье, сшитое для обычной, повседневной жизни. Конечно, на фотографиях бывают запечатлены и наряды для торжественных случаев (свадебные, реже бальные), однако их количество в общей массе фотопортретов не велико.
Главное преимущество фотографии при изучении костюма заключается в адекватной передаче внешнего вида последнего. Письменный источник передает впечатление о костюме, всегда более или менее художественное, что несет в себе значительную долю субъективности, выделяя одни детали и опуская другие. Фотография же позволяет увидеть костюм таким, каким он был на самом деле, во всей сложности его элементов, не доступной письменному описанию. При этом фотография значительно выигрывает при сравнении с живописным портретом и даже вещественным источником. Главное достоинство портрета, по сравнению с фотографией (по меньшей мере, с фотографией рубежа веков), – это возможность передачи такой важной характеристики костюма, как цвет. Однако, вопреки мнению Е. В. Савельевой, заявляющей, что «в отличие от модных журналов живопись дает объективное представление о том, как одевались люди» [34, с.26], созданный художником, он всегда несет на себе отпечаток стилистики эпохи. Как бы не стремился его автор передать реальный образ портретируемого, его (автора) эстетические представления неизбежно накладывают отпечаток на облик модели [2, с.298].
Вещественный источник, то есть реально существующее платье, является основным при изучении кроя одежды. Однако когда речь идет о внешнем виде костюма, то его данные оказываются весьма неполными. Таких характеристик костюма, как силуэт и сочетаемость различных элементов, вещественный источник передать не может (музейные коллекции одежды, как правило, создавались из отдельных предметов и чаще всего не составляют костюмных комплексов [8]. Неправильное расположение отдельных частей костюма является довольно частым явлением при формировании экспозиции даже в крупных музеях. Т. Т. Коршунова, в частности, дважды публиковала платье из коллекции Эрмитажа, в котором одна и та же деталь – вышитая фестонами полоса ткани – надета в качестве воротника (в 1979 г. [24, ил.65]) и в качестве оборки берты (2000 г. [23, с.17]). Такое явление – следствие утраты функциональной связи исследователя с реконструируемым платьем. Понимание вещи, по мнению И. Г. Глушкова [15, с.11], свойственно только современнику, который не утратил еще знаний о ее назначении и языке. Чем дальше находимся мы от изучаемой эпохи, тем хуже представляем себе функцию элементов костюма. Его фундаментальные, основные детали ясны нам в силу того, что существуют в современности, однако для понимания любых отживших конструкций уже необходимы некие специальные знания.
Одной из сложных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники музеев при работе над экспозицией по истории костюма, является проблема формирования силуэта. Силуэт это, как писал Р. Барт, – «эстетический смысл одежды» [4, с.142]. Он соединяет в себе «самые разношерстные элементы … представляет собой сам процесс абстрагирования» [там же], делает костюм любой эпохи узнаваемым, что называется «с первой буквы». Формируется он не столько за счет самого платья, сколько за счет нижнего белья. «Понять» силуэт, имея на руках даже наиболее полный комплекс вещественных источников, попросту невозможно. Лишь представленный на изображении общий вид наряда позволяет соединить в необходимых пропорциях корсет, сорочку, нижние юбки, всевозможные накладки и подбивки. Часто случается, что платья, надетые на современный манекен, не застегиваются в одних местах и оказываются большими в других. В частности, заказанный Пермским краеведческим музеем манекен, образцом для которого выступала фигура балерины, оказался слишком «толстым» – надетые на него платья застегивались на талии, но не сходились в области груди. Поддерживаемая корсетом грудь женщины XIX в. оказывалась много выше, чем у современной балерины, и линия максимального объема лифа располагалась по-другому.
Фотография позволяет увидеть силуэт и расположение деталей костюма, не прибегая к источникам других видов. Однако и ее данные, как данные любого другого исторического источника, нуждаются в проверке. В фотографическом изображении костюма, так же как и в письменном изображении, присутствует некая доля «недостоверности», вызванная желанием человека выглядеть (и остаться для потомков) не таким, какой он есть на самом деле. С большой степенью вероятности можно предположить, что любой запечатленный на фотографии костюм существовал, однако был ли он привычным для его носителя, и даже принадлежал ли ему, сказать, как правило, трудно. Случаи, в которых степень достоверности однозначно читается как низкая, достаточно редки. Примером их могут служить портреты З. и Л. Крыловых или М. Богаткиной. Две старшие дочери екатеринбургского домовладельца, крестьянина Костромской губернии М. М. Крылова [25], Зинаида и Лидия, одеты в юбки и блузы, на которых хорошо видны сгибы ткани, появляющиеся от долгого лежания вещи в сундуке и характерные для фотографий крестьян в праздничной одежде. Следует предположить, что изящные, но довольно простые «модные» платья, дочери маляра [16, с.230, 704], воспринимали как сугубо нарядные и надевали довольно редко, лишь по каким-то особым случаям (вроде семейной фотографии). Мария Богаткина [6] запечатлена фотографом в элегантном платье из темного бархата с прикладом из тесьмы, пуговиц и гипюра. Сложная прическа с начесом и, возможно, постижем, многочисленные украшения (два кольца, серьги, браслет, медальон на цепочке и часы на шелковом шнуре) хорошо сочетаются с дорогим нарядом, однако мало соответствуют возрасту портретируемой (не более 16-17 лет). Это, в сочетании с выражением лица девушки, на котором ясно читаются гордость своим внешним видом и некоторая шаловливость, заставляет предположить, что подобный наряд был для нее не столько привычен, сколько желанен. Более пристальное рассмотрение деталей костюма позволяет подтвердить это предположение и высказать мнение о заимствовании платья. На фотографии хорошо видно, что переднее полотнище подола лежит на полу. Учитывая, что юбки этого времени шьют длиной до щиколотки (не говоря уже о том, что при такой длине подола девушка просто не смогла бы ходить), можно говорить о том, что настоящая владелица платья была значительно (как минимум на 10 см) выше юной модели. Позаимствованное платье (а возможно и украшения), по-видимому,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 представлялось М. Богаткиной более красивым и модным (означающим более высокий статус?), чем ее обычный костюм.
За исключением случаев, подобных вышеописанным, установить степень достоверности костюма на фотографии, как правило, сложно. Однако в рамках данного исследования вопрос о том, как часто носилось представленное на фотографии платье, и даже принадлежало ли оно изображенному, не принципиален. Исходя из того, что человек, меняющий свой образ перед фотосъемкой, стремится его улучшить, можно предположить, что представленный нам вариант наряда всегда будет «моднее», дороже и значительнее, чем повседневный, однако все же реально существовавшим в гардеробе изображенного или какого-то другого лица.
Список литературы Семиотика костюма: к вопросу о репрезентативности источника
- Адукова Т. Ю. Провинциальная мода в фотографиях: Челябинск конца 19 -начала 20 века. Городской костюм//Города Урала в контексте русской культуры: тезисы докладов юбилейной региональной науч. практ. конференции, посвященной 80-летию Краеведческого движения в Челябинске. -Челябинск, 1993.
- Алексеев В. В. Образное и документальное отображение исторической реальности в изобразительных источниках//Проблемы источниковедения и историографии. -М., 2000.
- Барт Р. Семантика вещи//Барт Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры. -М., 2003.
- Барт Р. Система моды//Барт Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры. -М., 2003.
- Башкирцева М. Дневник. -М., 2000.
- Богаткина (Иванова) М. Т. 1911 г./ОМПУ, г. Екатеринбург. Инв. № МПУ НВФ 3500/3.
- Богатырев П. Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии//Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. -М., 1971. -С. 229.
- Богордаева А. А. Традиционный костюм обских угров (классификация, функции, развитие): Дисс.... канд. ист. наук -СПб., 2005.
- Вайнштейн О. Денди: Мода, литература, стиль жизни. -М., 2006.
- Васильев А. А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. -М., 2004.
- Васильева Л. «Молодая девушка»//Весь мир. -1911. -№11.
- Весь мир. -1911, №13.
- Воспоминания великой княгини Марии Павловны. -М., 2003.
- Гаспаров Б. М. Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен//Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. -М., 1994.
- Глушков И. Г. Вещеведение: наука или искусство?//Глушков И. Г. Керамика как археологический источник. -Новосибирск, 1996.
- Город Екатеринбург/Под ред. Симанова. -Екатеринбург, 1889.
- Димиденко Ю. Подиум Серебряного века: От «Утреннего Бакста» до «нормаль-одежды»//Наше наследие. -2002. -№ 63-64. -С. 50-63.
- Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях//Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 10 т. -М., 1956. -Т. 4.
- Дьяконова Е. Дневник русской женщины. -М., 2004.
- Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание (Методологические аспекты). -Томск, 1973.
- Из писем князя Феликса Феликсовича Юсупова (мл.)//Река времен: Книга истории и культуры. -Кн. 2. Гражданское общество и частная жизнь. -М., 1995.
- Камаровская, графиня. Воспоминания//Камаровская Е. Л., Камаровский Е. Ф. Воспоминания. -М., 2002.
- Коршунова Т. Придворный костюм в России//Наше наследие. -2000. -№ 53.
- Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII -начала XX века: из собрания государственного Эрмитажа. -Л., 1979.
- Крылов М. М. с семьей. 1912 г. Фото бр. Козловых, г. Екатеринбург/СОКМ. Фонд кино и фотодокументов. Инв. № С/М-24977/2 Ф-9597 К-135.
- Мемуары графини Варвары Николаевны Головиной//Мемуары графини Головиной. Записки князя Голицына -М., 2000.
- Моды и Европейская жизнь//Весь мир. -1913. -№ 31.
- Никитенко А. В. Дневник. -Т. 1. -М., 1955.
- Новейшие моды и рукоделия. Бесплатное приложение к журналу "Родина", 1990.
- Парижские моды хозяйство и домоводство: Бесплатное приложение к журналу «Север». -1893, №1.
- Парижские моды. Бесплатное приложение к журналу "Нева", 1893.
- Последние моды. Бесплатное приложение к журналу "Женщина", 1893.
- Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений записанные и собранные ее внуком Д. Благово. -Л., 1989.
- Савельева Е. В. Советский костюм 1917-1921 гг. как отражение общественных перемен: Дисс... канд. ист. наук -М., 2006.
- Тютчева А. Ф. Дневник//Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания и дневники. -М., 2004. -С. 305.
- Фефилова Л. Ю. Методика семиотического анализа костюма рубежа XIX -XX вв.//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». -2006. -№3(7). Спец. выпуск. -С. 316-321.